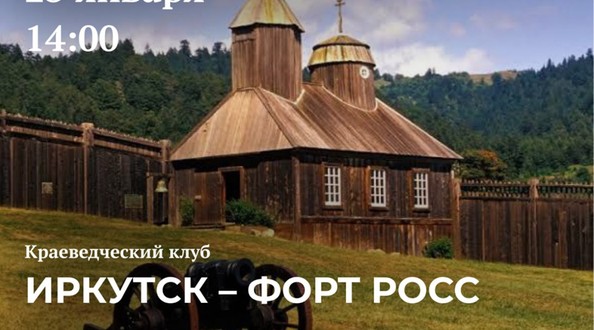Лев Сидоровский: Мой День Победы 45-го в Иркутске

09 мая 2021
Про победу Лев Сидоровский узнал в семь часов десять минут утра.
Эту столь желанную весть радио Москвы сообщило в два часа десять минут ночи, но у нас, в Иркутске, было уже утро, и только-только диктор Юрий Левитан особенно торжественно и раскатисто произнёс первые слова, как весь наш двор (ведь тогда в нетерпеливом ожидании радио даже ночью не выключал никто) огласился восторженными криками...
Я бросился туда, где, несмотря на ранний час, все мальчишки были уже в сборе. И самый большой мой дружок, тоже десятилетний, «эвакуированный» Вовка Нороха, который так здорово изображал на бумаге Графскую пристань и боевые корабли (в сорок втором мама каким-то чудом вывезла его из пылающего Севастополя, а отец, черноморский моряк Никифор Нороха, там геройски погиб) во всю глотку вопил: «Ну что, гады, получили?!»
А во дворе, через дорогу наискосок, вовсю прыгали разновозрастные братья Рамазан, Юнус и Якуб, а красиво сложённый Буладемир, который был почти вдвое старше (и почему-то упрямо заставлял называть себя Владимиром), в белой майке на турнике (железный лом, закреплённый меж двумя дровяниками – так у нас, в Сибири, назывались сараи), тоже что-то восторженно вопя, крутил и крутил своё любимое «солнышко».
Тут с 4-й Советской (а это совсем не ближний свет) примчался возбуждённый их близкий родственник, Вовкин ровесник, Закарья. Впрочем, бегать он привык, потому что всякий раз, вставая в пять утра, именно таким образом (общественного транспорта тогда у нас ещё не было) отправлялся через весь город, в Иркутск-2, на Авиационный завод. Совсем не великий ростом кормилец семьи (отец на фронте, а у мамы ещё маленькие Разия и Файтулла), лишь стоя на ящике, мог дотянуться до станка.
Через пять месяцев после того Девятого мая он под зорким приглядом великолепного тренера Игоря Борисовича Кирзнера впервые во Дворце пионеров выйдет на ринг, чтобы спустя год стать чемпионом РСФСР по боксу. И дальше Закария Мигеров это звание будет, раз за разом, подтверждать семь лет подряд. Но это, повторяю, будет потом, а в то незабываемое утро - день, кроме всего, объявили выходным! - развесёлый Закуш (так Закарью называли в семье) радостно тискал своих двоюродных братьев и тоже пытался на турнике крутить «солнышко».
А с соседней улицы прибежал (да, именно не пришёл, а прибежал) мой дед. В руках он держал длиннющую оглоблю и потребовал у своей дочери, моей мамы, срочно найти какую-нибудь красную материю, чтобы к этой оглобле прикрепить: «Никогда никаких флагов не вывешивал, а сейчас надо! За эту Победу на Курской дуге пролил кровь и мой сын!» Слава богу, у мамы с довоенных времён остался кусок ткани подходящего цвета, и дед водрузил над убогой своей, почти вросшей в землю на 5-й Красноармейской улице избёнкой такое вот «Знамя Победы».
А трёхлетний мой братишка Шурик, вокруг которого с самого рождения все разговоры чаще всего были про войну, вдруг произнёс, поразив нас, очень даже взрослую фразу: «Ну, вот и дождались».
Да, дождались…
Начиная с того самого июньского воскресенья, когда родители привели меня в начало улицы Тимирязева, где раскинул свой шатёр цирк-шапито. От "дуровской железной дороги" с пассажирами-зверюшками, от проделок клоунов я был в восторге, а во втором отделении вдруг хлынул дождь, и брезентовый купол шапито быстро промок. Заливало и зрителей, и артистов, но под прохудившимся куполом всё равно царило веселье. Потом мы прыгали через лужи, и, когда, вымокшие до последней нитки, прибежали домой, чёрная тарелка радиорепродуктора сказала короткое страшное слово война.
На фронт ушли шесть моих дядьёв, Один из них, Илья Ферд, погиб уже осенью сорок первого: их воздушный десант был выброшен под Оршей и полностью уничтожен. Судьба его братьев, тоже шагнувших в пекло войны прямо со школьной скамьи, оказалась куда милосердней: пехотинец Исаак Паперный, удостоенный потом солдатского ордена Славы, получил в сорок третьем, на Курской дуге, всего-навсего два тяжёлых ранения; а старший сержант Борис Паперный в сорок четвёртом, под Николаевым, был сильно контужен.
Конечно, передовая от Сибири проходила далеко, но война крепко ощущалась и тут (тем более что до самой Сталинградской битвы с тревогой ждали нападения японцев): на улицах по вечерам тускло светили синие, маскировочные лампочки; на всех оконных стёклах белели, крест-накрест, полоски бумаги – к счастью, ни один взрыв не испытал их на прочность, однако учебные воздушные тревоги проводились частенько; за хлебом, чтобы отоварить карточки, с ночи вытягивались унылые очереди.
Возвратившиеся с фронта инвалиды лупили костылями местных милиционеров: «Спрятались в тылу, падлы!». В городе появились «эвакуированные». Мы тоже сдали вторую комнату, завесив пустой дверной проём простынёй. Скоро один из новых «эвакуированных» в нашем дворе, Вовка Нороха, стал моим закадычным другом. Он частенько рассказывал мне про свой Севастополь, и, конечно, я не мог тогда представить, что спустя полтора десятка лет в этом ослепительно белом, из инкерманского камня, городе буду проходить «газетную практику» в редакции «Славы Севастополя». В самые первые месяцы войны, ещё летом, без вести пропал ушедший с нашего двора на фронт Валька, сын знаменитого в городе педиатра, профессора Фельдгуна. Арнольд Ильич ещё больше сгорбился.
Через забор от нас находилась школа № 13, но там теперь располагался госпиталь, и летом, если жарило солнышко, раненые, которые уже выздоравливали, скинув байковые халаты и белые нательные рубахи, оставшись лишь в кальсонах, загорали на крышах «пограничных» с нами дровяников. Частенько они сверху сбрасывали нам, мальчишкам, красненькие тридцатирублёвки, и мы мчались на базар, который был через квартал, и покупали четушечки с водкой. Ещё приносили им, вдобавок к четвертинке, традиционную в ту пору «закусь»: куски чёрного хлеба, густо присыпанные черемшой.
А по радио всё звучало: наши войска оставили такой-то город, такой-то… И ещё – про зверства фашистов на оккупированной территории. Слыша всё это с утра до ночи ни о чём другом я уже думать не мог. А в марте сорок второго у меня появился брат Шурик. И вот теперь я каждую ночь видел один и тот же сон: фашист в рогатой каске, как немецкий пёс-рыцарь в фильме «Александр Невский», тоже бросает моего Шурика в огонь. Я пытаюсь его из вражьих рук вырвать, от ужаса ору – и… просыпаюсь в испарине. И так, повторяю, каждую ночь – пожалуй, до самого конца войны…
Об этом, конечно, никому не рассказывал, стеснялся, но спать боялся. Ложась в кровать, всякий раз, в тайне от всех, шептал придуманную молитву: «Дорогой Боженька! Ну, пожалуйста, сделай так, чтобы этот плохой сон мне больше не снился». Однако он снился снова и снова.
По горло нашпигованный антигитлеровской пропагандой, я просто не мог не начать сочинять на эту тему вирши. Страстно желая родимому Отечеству скорой победы, осенью сорок первого написал:
Крошка хлеба на окошке,
Гитлер с Геббельсом – у плошки.
На собак похожи в точь:
Не едят ни день, ни ночь…
Дальше там было про то, как они в панике предчувствуют близкий свой конец. А наслушавшись радиопередач про Зою Космодемьянскую, просто не мог не написать про её муки. В частности, было там и такое:
Когда её верёвками связали
И все смотрели на её девичью наготу,
Её офицера спросили: "Где же Сталин?",
Она вскричала: "Сталин – на посту!"
Помню, мама была несколько обескуражена: "В семь лет – про "девичью наготу?". Скоро, став первоклассником, я читал и это своё "творение", и другие в подшефных госпиталях. И вместе со школьным хором пел там: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"
Вообще-то воспоминания о тех первых ученических годах довольно мрачные. Начинал образование в школе № 13, переведённой из своего обширного помещения, где расположился госпиталь, в тесное, захудалое. Учились в три смены, поэтому я должен был быть в классе уже к восьми утра.
Зимой, когда мороз иногда достигал сорока градусов и даже ниже, кальсоны (белые, хлопчатобумажные, тёплого белья в нынешнем понимании у нас ещё не было) я всё равно тайно оставлял дома, под матрасом, считая, что подобное одеяние мужчину унижает. Ну а трусы под брюками «галифе» согревали мало. Поэтому дорогу до школы в основном преодолевал рысцой. Сидели на партах по трое, не снимая пальтишек, тулупов, телогреек. Чернила в «непроливашках» замерзали. Выводить «восемьдесят шестым» пером (до сих пор в ушах голос учительницы: "Нажим, волосяная...") по грубым, обёрточным желтоватым листам, которые накануне вечером мама при лампе-«керосинке» карандашом линовала «в косую линейку», было ой как непросто.
Впрочем, за письмо принимались уже к концу. Потому что все первые уроки, ожидая, пока за плотно покрытыми морозными узорами окнами хоть немножко посветлеет (электричество давали не часто), мы пели. Особенно вот эту: «В бой за Родину! В бой за Сталина! Боевая честь нам дорога! Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага!..» Причём, в отличие от боевых коней, сами себя сытыми ощущали редко.
Год спустя оказался я в другой школе, № 30, где с учёбой вообще был, как говорится, полный завал. Да, почти на каждом уроке, вместо чтения, письма и арифметики, мы наперебой, захлёбываясь от восторга, пересказывали новые фильмы, которые посчастливилось увидеть в «Гиганте», «Художественном» или «Пионере» (куда чаще всего «протыривались» без билета): и про героиню Марецкой в картине «Она защищает Родину», и про Фёдора Таланова в «Нашествии», и про Аркадия с Сашей из «Двух бойцов». И снова всем классом пели заученное с экрана: «Тёмную ночь», «Шаланды, полные кефали», позже – «Артиллеристы, Сталин дал приказ!»
В сорок третьем, седьмого ноября, меня там очень буднично приняли в пионеры. Но домой я шёл, преисполненный гордости, несмотря на крепкий морозец распахнув телогрейку, – чтобы все видели мой красный галстук.
То мы хватались за тимуровские дела и спешно тащили с водокачки на коромысле воду какой-то солдатской вдове. То вдруг с Борькой Цесарским при помощи плёночного фильмоскопа устраивали летним вечером во дворе, на вывешенной простыне, кинопоказ сказки «Про мёртвую царевну и семь богатырей», а потом полученные от соседей «за билеты» сущие копейки пытались сдать в «фонд обороны страны».
То вдруг в классе спецвыпуском стенгазеты и концертом отмечали столетие со дня смерти баснописца Крылова. То закатывали театральное действо про «Костю-партизана».
Многие из нас коллекционировали почтовые марки, обменивались ими. Особенно ценились: самая первая послереволюционная (пролетарий разрывает железные оковы!), и серия, посвящённая спасению челюскинцев, и вся (десять штук!) «Всесоюзная Спартакиада», и герои этой войны – Николай Гастелло, Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянская.
А ещё – «иностранные». Особо гордился я не помню уж как добытыми, заокеанскими, выпущенными к 450-летию открытия Колумбом Америки. И тувинские – огромные, красочные, разнофигурные (квадраты, треугольники, ромбы) – тогда тоже были «иностранными», ибо в состав СССР Тува войдёт лишь в 1944-м.
Часто обмен марками (кстати, как и книгами, читали мы всё же много) шёл прямо на уроках. А после уроков, почти всякий раз, в дальнем углу школьного двора выяснялись непростые мальчишеские отношения. Это называлось: «посчитаться». В очень популярной тогда, наверное, среди всех мальчишек страны песне «В нашу гавань заходили корабли» этот термин упоминался тоже: «Эй, Гарри, посчитаемся с тобой!» – раздался пьяный голос атамана».
Так вот, ещё заранее выяснив, кто с кем сегодня будет «считаться», мы после уроков всей гурьбой шли в отведённое для поединков место и там строго следили, чтоб не нарушались святые правила: «ногами не бить», «лежачего не бить», «драка – до первой крови».
Конечно, все мы играли в «зоску» (кусочек свинца с прикреплённой к нему какой-нибудь шкуркой: поочерёдно сгибая ногу, и правую, и левую, подкидываешь её валенком, и «зоска» взлетает до ста раз и больше). А ещё каждый мальчишка хранил в валенке «сбиток». О, «сбиток» – это гениальная придумка!
Обычный конёк обрабатывался таким образом, что от него, по сути, оставался лишь полоз с узкой площадкой поверху. Только выйдешь из дома, извлекаешь из валенка собственное «транспортное средство», одну ногу – на «сбиток», другой ка-а-ак оттолкнёшься!.. Улицы от снега, крепко скреплённого морозом, тогда, конечно, не чистились, и скорость по укатанному насту получалась – будь здоров!
Сейчас война вспоминается чаще всего, так сказать, не «в целом», а какими-то отдельными деталями, которые время от времени всплывают в памяти. Ну, например: однажды на общегородском детском новогоднем празднике хороводы с нами в облике Деда Мороза водила… женщина. И нас это ничуть не смущало: за войну мы уже привыкли к тому, что мужиков – мало, и поэтому женщины часто выполняют их работу.
Или такой случай. Идём как-то гурьбой из школы и вдруг видим: трусит по улице мужичонка, в рваной телогрейке, в шапке со спущенными ушами. А из-под шапки выбивается на глаза такая знакомая по карикатурам Кукрыниксов (я им, всем троим, потом, спустя двадцать лет, когда пришёл в их мастерскую, об этом эпизоде рассказал) чёлка. И усики – тоже явно гитлеровские.
Было это уже последней военной зимой, и мы решили, что, боясь скорого и справедливого возмездия, бесноватый фюрер, сбежав из Берлина, решил спрятаться подальше, в Иркутске. В общем, окружили «Гитлера», притащили в милицию, но там нас за «бдительность» не похвалили.
А ещё не могли мы жить без нашего Драмтеатра (чьё здание, возведённое в 1897-м по проекту Виктора Шретера, воистину шедевр зодчества), который тогда ещё не был «академическим» и не носил ещё имя нашего земляка – знаменитого Николая Павловича Охлопкова, но спектакли ставил потрясающие.
Например – «Давным-давно», про гусаров! Если наши места оказывались в ложе бельэтажа, то раздевались мы не в гардеробе, а там же, в комнатке при ложе, где было и зеркало, и диванчик, а потом благоговейно внимали любимым артистам – «тёте Кате» Барановой, Борису Ситко, Галине Крамовой и другим.
И ТЮЗа тоже обожали: какие прелестные сказки сочинял для этой сцены наш земляк Павел Григорьевич Маляревский и какие замечательные играли там актёры: Васса Климанова, Таисия Козлитина, Пётр Лавров, Николай Евтюхов – всех не перечислить. И распевали чудесные песни «Пал Палыча»: композитор Павел Павлович Гоголев руководил тюзовским оркестром, и его мелодии к «Коту в сапогах», «Трём толстякам» или «Золотому ключику» придавали любимым спектаклям особую прелесть.
К тому же была в городе потрясающая «Музкомедия» с божественной примадонной Августой Воробьёвой, с ослепительным героем-любовником Михаилом Снеговым, с несравненным комиком Григорием Гроссом и остальными, столь же талантливыми: так что дивные мелодии Кальмана, Легара, Оффенбаха, Штрауса, да и «наших» – Дунаевского, Александрова, Стрельникова – в моё и моих сверстников невесёлое военное детство внесли такие редкие тогда солнечные краски. В театры мы ходили, непременно помыв шею, уши и тщательно почистив ваксой обувь.
Но всё-таки самое главное, чем вместе со взрослыми мы тогда жили, – это, конечно: «Всё для фронта, всё для победы!» С начала войны наш Иркутск принял с запада двадцать два эвакуированных предприятия, и вместе с местными заводами они для победы напрягали все силы. Хотя всё было строго засекречено, но мы, мальчишки, каким-то образом прознали, что, например, Завод имени Куйбышева вовсю выпускает авиабомбы, миномёты и мины, а авиазавод – превосходившие немецкие «хейнкели» и «юнкерсы» бомбардировщики Пе-2, тяжёлые истребители Пе-3 и другие бомбардировщики – Ил-4, Ер-2 и Ер-2 ОН (особого назначения), которые могли совершать беспосадочные перелёты из Иркутска до Москвы, что в то время было рекордом, а ещё очень были хороши для связи с партизанскими районами.
Вот так и жили. И наконец дождались того Девятого мая.
Узнав, что в школу сегодня идти не надо, я рванул в центр города, на площадь Кирова. Тут меня обогнала полуторка. В её кузове едва вместился какой-то самодеятельный девичий хор: «По дороге Девятого мая мы в заветные дали пойдём». Мелодия была знакомая, слова, очевидно, только что наспех сочинённые – во всяком случае, семьдесят шесть лет с того дня минуло, но никогда больше этой песни я уже не слышал.
А на площади – ещё не асфальтированной (асфальта на иркутских улицах в ту пору вообще не было), которая до революции называлась Тихвинской и где когда-то молодой Николай Охлопков поставил первое в стране «р-р-революционное действо», – уже творилось чёрт те что. Такого количества людей никогда прежде я не видел: они смеялись, подбрасывали в небо военных (особенно – если у них на груди были награды и нашивки за ранение), пели, танцевали. Кто-то под баян «бацал» «цыганочку»; кто-то под гармошку: «Эх, путь-дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая» – и все подхватывали: «Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!»
Кто-то раздвигал меха аккордеона, кто-то наяривал на гитаре, кто-то на балалайке. Вдруг вижу, как в кузове студебеккера с опущенными бортами хрупкий старичок (седоусый, бородка клинышком) пытается что-то сплясать. Ба! Да это же сверх уважаемый наш врач-офтальмолог, профессор, директор Глазной клиники Захарий Григорьевич Франк-Каменецкий!
А в другом кузове – любимые, как бы я теперь их назвал, «звёзды» нашей «Музкомедии» Григорий Муринский и Мария Морозова под аккордеон искромётно выдают: «Звенят бубенчики!..» – дуэт и танец из оперетты «Холопка».
А ещё поразила меня голубенькая тележка мороженщицы, которую с «до войны» не встречал: милая бабуля ловко выдавливала вкуснятину из жестяной формочки на вафельку, сверху другой вафелькой её прикрывала и бесплатно раздавала это давным-давно невиданное чудо ребятне.
Другая бабуля тоже бесплатно раздаривала малышне из огромной плетёной корзины пирожки. Рядом слышу радостный шёпот: «Сегодня в Крестовоздвиженской церкви – торжественное богослужение!» В ответ: «Да что ты?!» А я вообще был убеждён, что красавица-церковь, которая высится на горе, как раз над тем местом, где летом размещается цирк-шапито, давным-давно закрыта.
В центре площади, над деревянной трибуной, где расположились разные «знатные» горожане, – огромный портрет Сталина, увитый фиолетовыми цветами словно специально к этому счастливому дню, а погода-то почти летняя, 20 градусов, раньше положенного срока, расцветшего багульника. Чёрный раструб радиорепродуктора время от времени голосом Левитана повторяет и «Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии», и «Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем всенародного торжества – Праздником Победы». А еще снова и снова звучит обращение Сталина к «соотечественникам и соотечественницам»:
«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией».
Почти каждая сталинская фраза вызывает крики «ура!» Пониже его портрета на трибуне изображения полководцев – Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского, Говорова, Малиновского, Мерецкова и других. Мог ли я тогда себе представить, что минуют годы – и фронтовой шофёр Жукова Александр Николаевич Бучин повезёт меня на своем «жигулёнке» в деревню Стрелковка, где Георгий Константинович родился; что о нём мне будут рассказывать те, кто всю войну находились с маршалом рядом – Николай Иванович Пучков и Александр Петрович Дмитренко; что дочери этого легендарного человека, Эрочка и Эллочка, покажут мне его письма с фронта, а также – мундир, в котором, по их словам, отец принимал Парад Победы.
Мог ли я, десятилетний, в тот майский день предположить, что и в квартире Константина Константиновича Рокоссовского побываю, и в семье Леонида Александровича Говорова, и в гостях у сына Кирилла Афанасьевича Мерецкова.
А с трибуны тем временем выступали разные «уважаемые» люди: секретарь обкома партии Кобелев, секретарь горкома комсомола Выборов, председатель облисполкома Иванов, от Иркутского гарнизона – некто Свириденко, от Слюдяной фабрики – работница Мишина, ректор госуниверситета Шевцов.
И прочёл свои новые стихи поэт Анатолий Ольхон:
«Весна Победы! Мы – в Берлине!
Прославлен будет этот год.
Подобен громовой лавине
Освободительный поход».
А сколько поэтов-иркутян с войны не вернулось:
Иван Черепанов («В год тревожный, незабвенный // Власть рабочих отстоять // В дальний край, в поход военный // Отправляла сына мать…»);
Джек Алтаузен («Разве можно свой край не любить ,// Отвоёванный саблей бывалой, // Где ты рос, где ты стал запевалой, // Самолёт научился водить…»);
Моисей Рыбаков («Эх, Байкал, родной, гривастый! // Едем, едем на войну. // Вспоминать мы станем часто // Синюю твою волну…»);
Иосиф Уткин («К изголовью тихому постели // Сердце направляет свой полёт. // Фронтовая музыка метели // О тебе мне, милая, поёт…»).
В общем, долго-долго был я там, на площади, со всеми. Студентки-химички, продираясь сквозь это ликующее людское скопище с бутылями, полными разведённого спирта, и стаканами, весело призывали: «Подходите, пейте за нашу Победу!»
Потом поспешил я на ангарский берег, в «Сад имени Парижской коммуны», где люди вовсю танцевали под духовой оркестр, которым ещё с довоенной поры дирижировал местная знаменитость Исаак Моисеевич Гершевич. А после бесплатно (так распорядились местные власти), сидя на полу в до отказа набитом ребятнёй кинозале «Гиганта», смотрел не раз виданную прежде довоенную кинокомедию «Девушка спешит на свидание».
Когда наконец вернулся в свой двор, уже смеркалось. Из всех распахнутых окон доносились звуки веселья, и только профессор-педиатр Арнольд Ильич Фельдгун с женой, тесно прижавшись, сидели на лавочке. Тётя Тоня горько плакала, а седенький доктор молчал. Ведь их сын Валька сгинул ещё в сорок первом.
А спустя семь десятилетий, в 2015-м, я вернулся в Иркутск, чтобы снять фильм «Город мой, город на Ангаре». Поселился в отеле как раз на той самой площади Кирова, которая за прошедшие годы, конечно, преобразилась невероятно: там ныне шикарный сквер с грандиозным фонтаном. И потом увидел, как горит над Ангарой Вечный огонь в память о том, что 211 000 иркутян отправились на фронт, в составе сибирских дивизий отстояли Москву, не сдали Сталинград, взяли штурмом Берлин – и почти половина из них домой не вернулись. Здесь, на стене Мемориала, – имена тридцати семи моих земляков, которые, заслужив звание Героев Советского Союза, погибли. А генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов – дважды Герой. Нет, не забыли иркутяне про великий подвиг своих отцов и дедов.
На кладбищенском обелиске я прочёл:
«Под могильной плитой, под стрелой обелиска,
Только глянешь – и к горлу комок.
Опустилась рука, положила записку:
«С днём рожденья тебя, мой сынок…»
С днём рожденья, солдат! Поклоняются люди,
Облака, и цветы, и трава…
Никогда для тебя смертной даты не будет,
Если мама осталась жива…
Начертала война на трагических плитах
Имена, имена, имена…
Вы навек рождены, вы вовек не забыты,
Если Родина-мать спасена».
И, как грозное напоминание о прошлом, застыл на постаменте танк – один из танковой колонны «Иркутский комсомолец», который тогда дошёл до Праги.
И сложились у меня такие стихи:
«В давнем детстве моём жили мы – ну совсем не как баре,
И сегодня я с грустью опять вспоминаю про то…
В школе госпиталь был, ну а мы по соседству – в хибаре,
Сразу трое за партой, от стужи не скинуть пальто…
Письма с фронта уже мы умели читать между строчек,
И порою от них становилось мальчишкам невмочь…
А ещё на уроках мы пели про «синий платочек»,
А ещё на уроках мы пели про «тёмную ночь»…
И на фильм «Два бойца» мы сбегали тогда беспрестанно,
И стихи «Жди меня» нам дарили частичку добра…
А когда про Победу услышали от Левитана,
То под мамины слёзы истошно вопили: «Ура!»
Много разных дорог пролегло на пути моём мглистом,
Но не был никогда от тревоги людской в стороне.
И покуда в родимом краю остаюсь журналистом,
Буду силы искать в той проклятой, великой войне».
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
На снимках: фотографии, сделанные в Иркутске 9 мая 1945 года. Спецвыпуск «Восточно-Сибирской правды» от 9 мая 1945 года. Я – в том самом, 1945-м.
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!