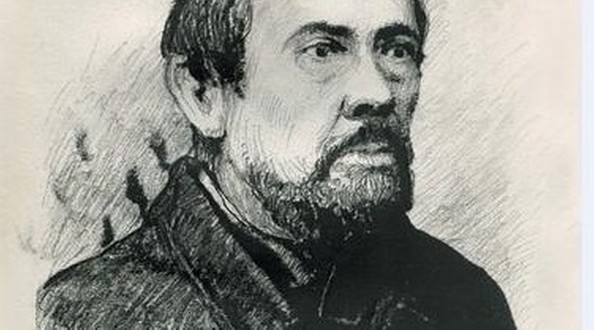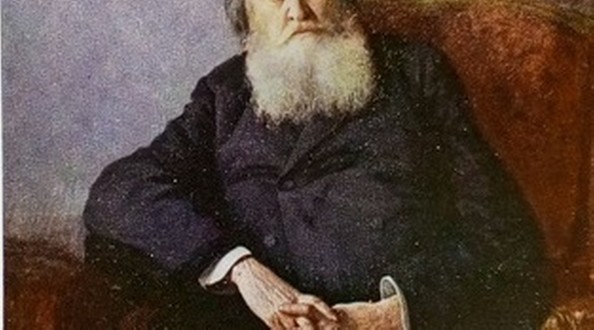Лев Сидоровский: Лев Толстой от Санкт-Петербурга до Ясной Поляны

14 сентября 2025
9 сентября 1828 года родился Лев Николаевич Толстой.
Мржно ли Льва Толстого назвать «петербургским» писателем? Едва ли. И всё ж без Петербурга вряд ли мог сформироваться этот великий русский гений, во всяком случае, оказался бы он иным. Наш город стал литературной купелью Льва Николаевича, память о котором хранят здесь дома, проспекты, набережные.
***
Там, где Малая Морская пересекается с Вознесенским проспектом, в середине позапрошлого века, под крышей дома Поггенполя, находилась гостиница «Наполеон». Именно здесь в феврале 1849-го нашёл приют двадцатилетний Толстой. По службе он числился в Тульском губернском управлении, однако не служить, а только «числиться», не иметь определенного занятия молодому графу было невмоготу. Не окончив Казанского университета, был намерен поселиться в доставшейся ему тогда по наследству Ясной Поляне дабы посвятить жизнь приведению в порядок её расстроенного хозяйства, улучшению положения своих крепостных, а также самообразованию. Но все эти планы провалились. Тогда пришло решение: ехать в столицу, держать экзамен в Университет, непременно его окончить, а потом служить.
По приезде сообщил брату Сергею: «Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где намерен остаться навеки. Петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние, она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать; все заняты, все хлопочут».
Подал прошение о допущении к испытаниям по юридическому факультету, успешно сдал два экзамена «на кандидата», однако вскоре брат получает известие: «Теперь переменил намерение и хочу вступить юнкером в Конно-Гвардейский полк».
Начиналась кампания по подавлению Венгерской революции. Пройдёт пятьдесят пять лет, и в черновиках повести «Хаджи-Мурат» он скажет: «Гибли сотни тысяч солдат – в бессмысленной муштровке на учениях, смотрах, маневрах и на ещё более бессмысленных жестоких войнах против людей, отстаивающих свою свободу в Польше, в Венгрии, на Кавказе».
Но и это намерение повисло в воздухе. Из очередного письма к брату: «Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там путного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо». В конце мая вернулся в Ясную Поляну.
***
Спустя три года, осенью 1852-го, петербургский журнал «Современник» опубликовал повесть «История моего детства», автор которой, направив рукопись по почте в редакцию, обозначил себя вот так: «Л.Н.» Повесть имела успех. Редактор «Современника» Некрасов сообщил Тургеневу: «Это талант новый и, кажется, надёжный». Тургенев ответил: «Ты прав – этот талант надёжный. Пиши к нему – и поощряй его писать».
А «надёжный талант» в это время был уже на Кавказе. Отбыв туда в апреле 1851-го со служившим в кавказской армии братом Николаем, он участвовал в походах против горцев сначала добровольцем, а потом фейерверкером IV класса в четвёртой батарее 20-й артиллерийской бригады. Своё первое опубликованное произведение писал меж боями в станице Старогладковской. Оттуда же с оказией отправил в Петербург рассказ «Набег», который на страницах «Современника» появился в марте 1853-го. И снова: «Л.Н.» Затем «Записки маркёра». Весной 1854-го, уже из Дунайской армии, Некрасов получил рукопись повести «Отрочество», на которую немедленно откликнулся восторженным письмом: «Покушаюсь сказать кой-что из всего, что думаю; выберу только, что талант автора "Отрочества" самобытен и симпатичен в высшей степени...»
Далее – Крымская война, оборона Севастополя. Он – на знаменитом Четвёртом бастионе. В нескольких номерах «Современника» – его «Севастопольские рассказы», под одним из которых наконец-то появилось полное имя автора: «Граф Л.Н.Толстой».
***
Приди на берег Фонтанки, к дому № 38: Толстой жил здесь, близ Аничкова моста, в квартире, которую снимал Тургенев, с 19 ноября до конца того 1855-го года. Причём гость попал в непрерывный людской круговорот. Некрасов, наконец-то увидевший своего автора «живьём», был очарован: «Что за милый человек, а уж какой умница!.. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши...» А самому Льву Николаевичу особенно пришёлся по душе Фет: «Откуда у этого добродушного толстого офицера берётся такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?!» И про Тютчева сказал радостно: «Без него жить нельзя». В общем, знакомств было много, и, оказавшись в самом центре литературного Петербурга, Толстой ощутил начало своей славы.

***
Еще один его петербургский адрес: Офицерская улица, дом Якобса (ныне ул. Декабристов, 15), по которому проживал с конца января по май 1856-го. Здесь закончил рассказ «Метель» и написал повесть «Два гусара». Утром 15 февраля привёл пятерых коллег по «Современнику» в «Дагерротипное и фотографическое заведение» Левицкого, что у Казанского моста, – и теперь мы имеем широко известный снимок: Гончаров, Тургенев, Дружинин, Островский, Григорович и Толстой – ещё в военной форме... Несмотря на то, что в ту же пору создал «Утро помещика», «Из кавказских воспоминаний» и часть «Юности», собой недоволен: «Совсем впал в праздность и материальность».
***
В ноябре 1856-го, возвратившись из Ясной Поляны, поселился в доме Блюммера на углу Вознесенского проспекта и Большой Мещанской. Опубликованная в «Современнике» повесть «Юность» – последняя часть трилогии – вызвала особый интерес, потому что завершала историю человеческой души на той стадии, когда формируется личность. Кстати, дома часами занимался музыкой, и его игра на пианино взыскательной публикой одобрялась весьма. В повести «Поверженный» так живописал столицу империи: «Над Петербургом стояла пасмурная зимняя ночь. Большой холодный город спал тем горячечным беспокойным сном, которым спит пьяный после разврата. С чёрного неба, мимо мрачных громад домов, слабо освещённых кое-где догорающими фонарями, падали белые сухие клочья снега на взрытое грязное тесто улиц».
***
После семнадцатилетнего отсутствия, в марте 1878-го, увидел Петербург сильно изменившимся. Ездил по городу и замечал: вот – новые доходные дома, банки, вокзалы, набережные благоустроены, всюду – газовое освещение. Остановился у тёщи, Любови Александровны Берс, в Эртелевом переулке (ныне улица Чехова, 7). Главная цель поездки – поиск материалов о декабристах, поэтому первым делом поспешил в Публичную библиотеку. Однако дни, до предела насыщенные не только сей заботой, но и визитами, новыми знакомствами, Льва Николаевича быстро утомили. Да и в гнилом питерском климате не здоровилось. Поспешил в яснополянскую тишину.
Спустя почти два года, в январе 1880-го, снова поселился по этому адресу. И опять – в Публичную библиотеку! Но размолвка с тёщей (в связи с отказом зятя от официальной церкви) подействовала на Толстого так, что решил: «Нужно бежать!» И бежал.
***
В последний раз – в связи с гонением на духоборов – оказался на невском берегу (вместе с Софьей Андреевной и профессором Московского университета Стороженко) в феврале 1897-го. Остановились в доме Олсуфьевых, на Фонтанке, 14. Все пять дней, с 7-го по 12-е, охранка за ним следила.
И всё же задачу, ради которой приехал, решил. А ещё посетил в Академии художеств Репина, потом записавшего: «Удивительно! Широкие скулы и грубо вырубленный нос, длинная косматая борода, огромные уши, смело и решительно очерченный рот, как у Вия брови над глазами, в виде панцирей. Внушительный, грозный, воинственный вид...» Толстой был для Репина «неисчерпаемым сюжетом»... Исполнив всё намеченное, Лев Николаевич, навсегда покинул Петербург и опять – скорей в любимую свою Ясную Поляну.
***
Вот и мне, дорогой читатель, довелось с ней свидеться. Ясная Поляна – имя-то какое светлое. Только минуешь белые башенки въездных ворот, только ступишь на широкую аллею, которую Лев Николаевич называл «прешпектом», как сразу становится ясно: вовсе не экскурсант ты в этой усадьбе, а гость.
Нигде не видно оградительных табличек: «По траве не ходить!» – наоборот, можно по ней ходить, можно лежать, можно купаться в речке Воронке, где купались все Толстые, можно собирать в лесу грибы и присесть отдохнуть на сбитой из берёзовых жердей любимой скамейке Льва Николаевича, глядя на огромные ели, которые при нём были ещё совсем маленькими. Помните: «Я всегда любуюсь на эти ёлочки. Это моё любимое место. И по утрам – это моя обычная прогулка. Иногда я сажусь здесь на скамейку и пишу...» Можно постоять в тени того самого знаменитого дуба, видом которого когда-то был поражён Андрей Болконский: «...Старый дуб, весь преображённый, раскинувшись шатром сочной, тёмной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца».
Кажется, каждая здешняя тропинка описана его многотрудным и счастливым пером, и только тут начинаешь по-настоящему ощущать истинный смысл вот этого признания: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и моё отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего творчества, но я не буду до пристрастия любить его».
И вот дом, где всё сохранилось в том виде, как было при хозяине: кабинет, стол с рукописями, чернильницей и ручкой, даже свечи, погашенные Толстым в ночь на 28 октября. Вот – его библиотека: двадцать две тысячи книг и номеров журналов на тридцати пяти языках, а сам он знал – восемь и в последний год стал ещё изучать китайский. Вот – письма к нему, которых в архиве хранится пятьдесят тысяч, а ответы Толстого на присылаемую сюда корреспонденцию в собрании сочинений занимают, известно, более тридцати томов.
Спускаюсь в тихую комнату под сводами, где когда-то, по очереди, были и кладовая, и столовая, и детская, и кабинет. Здесь на руках Льва Николаевича умерла «самая большая радость» его, дочь Маша. Здесь он писал «Воскресение», «Крейцерову сонату», «Хаджи-Мурата», «Войну и мир»... В сорок первом фашистские мерзавцы не остановились перед тем, чтобы осквернить и это место.

Фото автора: здесь он завещал похоронить себя
Рядом по-спартански обставленная «комнатка для приезжающих», которая помнит рождение «Анны Карениной». На этой кровати в разное время спали Тургенев и Фет, Чехов и Репин, Короленко и Горький... Какое дивное паломничество: почти весь цвет русской культуры на рубеже веков побывал в этих стенах!.. И теперь тоже идут и идут сюда люди, со всей земли.
И приходят люди в лес, который зовётся «Старым Заказом», и затихают у небольшого зелёного холмика. Здесь он завещал похоронить себя – без ограды и памятника, на краю оврага, где в детские годы с братом Николенькой искал «зелёную палочку». Ту самую, что была для них символом всеобщего братства и счастья.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!