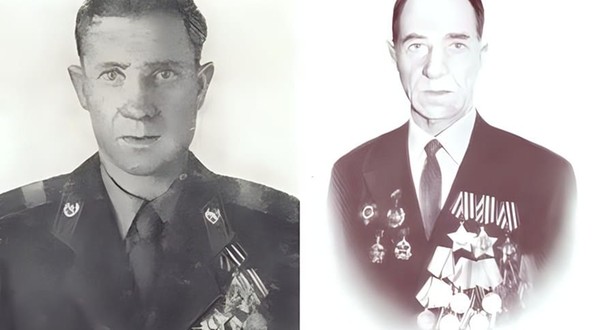Лев Сидоровский: Мое пионерское детство

19 мая 2021
О пионерском галстуке мечтал я ещё с «до войны». Однако, когда летом 1943-го попал в пионерский лагерь, который располагался близ Иркутска, в деревеньке Марково, права на него не имел, потому что было мне тогда лишь восемь «с хвостиком».
Вообще таким малолеткой, окончившим лишь первый класс, оказался там «незаконно», по инициативе мамы: она наивно полагала, что в то, совсем не сытное военное время, её отпрыск наконец-то, заодно со старшими ребятами, станет пить столь драгоценное, особенно в ту пору, молоко, которое, впрочем, и абсолютно все прочие молочные продукты, с самого «после грудного» возраста начисто отвергал. Увы, мамины чаяния не оправдались. Пришлось весь тот "лагерный" месяц довольствоваться мне лишь слабо заваренным чаем…
Выдался тот июль, как назло, жутко дождливым, и избы, в которых мы жили вместе с хозяевами, утопали в грязи. Спасаясь от этой жижи под ногами, мы чаще всего устраивались на сосновых брёвнах, которые громоздились близ сельсовета, где единственный на всю деревню чёрный раструб громкоговорителя сообщал нам последние новости «Совинформбюро»: тогда как раз начиналось сражение на Курской дуге. На этих же брёвнах мы разноголосо пели, особенно часто: «Бьётся в тесной печурке огонь».
А ещё мечтали о шоколаде («настоящем, каждому – два «окошечка»!»), который нам сразу же посулили на конец смены. Когда это счастье, наконец, свершилось, одним «окошечком» я насладился сам, а второе припрятал для полуторагодовалого брата Шурика. В общем, было мне в Марково весьма тошно, но о красном галстуке, который носила там вся наша ребятня, всё равно мечтал.
И спустя четыре месяца, 7 ноября, мечта сбылась. Впрочем, никакого особого торжества в моей 30-й школе по этому поводу не было. Закончился последний урок, в конце которого узнали, что накануне Красная Армия освободила от немцев Киев. Потом нас выстроили здесь же, у классной доски (никакого актового зала в предельно тесном школьном помещении, конечно, не существовало), и пионервожатая стала повязывать нам красные галстуки, которые мы накануне принесли из дома.
Впрочем, именно «повязывать» далеко не всем, потому что у некоторых оказались с собой для галстуков специальные «зажимы» – металлические, серебристые, с изображённым там пионерским костром. Потом вожатая разъяснила:
– Пять поленьев на зажиме символизируют пять континентов, а три язычка пламени – Третий Интернационал. В общем, костёр – это мировая революция, пламя которой должно охватить всю планету. Ну а красный галстук – это частица Красного знамени, пропитанного кровью тысяч борцов за дело революции, и три его угла олицетворяют единство коммунистов, комсомольцев и пионеров.
Потом «призвала» нас:
– Пионеры, к борьбе за дело Ленина – Сталина будьте готовы!
– Всегда готовы! – гаркнули мы заранее выученный «отклик».
На этом «торжество» завершилось. Но, как бы продлевая его, я по дороге домой, хотя морозец стоял крепкий, свою телогрейку решил не застёгивать, чтобы мой красный галстук был виден даже издалека…
Ну и в чем же далее проявлялось моё пионерство? Главное, наверное, в том, что вместе с дворовым приятелем, эвакуированным из Севастополя, сверстником Вовкой Норохой, принялись мы за разные тимуровские дела. Например, стали носить с водокачки на коромыслах воду двум красноармейским вдовам.
Мог ли тогда предвидеть, что спустя тридцать лет познакомлюсь с тем самым Тимуром Гайдаром, сыном любимого в детстве писателя Аркадия Гайдара, чьё имя отец дал и герою своей знаменитой книги, а значит – и всем нам, тимуровцам. Или вдруг с Борькой Цесарским при помощи плёночного фильмоскопа стали устраивать летними вечерами во дворе, на вывешенной простыне, «кинопоказ» сказки «Про мёртвую царевну и семь богатырей» и других подобных «фильмов», а потом полученные от соседей «за билеты» сущие копейки пытались сдать в «фонд обороны страны»…
Ну и, само собой, в подшефном госпитале читал раненым свои «патриотические» вирши:
«Крошка хлеба на окошке,
Гитлер с Геббельсом у плошки.
На собак похожи в точь:
Не едят ни день, ни ночь…»
Ну а после Победы, в первую же зиму, пришёл я во Дворец пионеров.
Этот особняк, который в конце XIX века на Большой Трапезниковской улице, получившей после революции имя Желябова, соорудил для себя купец, почётный гражданин Иркутска Александр Фёдорович Второв, был прелестным. Позже мне объяснят, что постройка выполнена в стиле «псевдорусского барокко», причём её архитектор, вероятно, тот же самый Виктор Шрётер, который почти одновременно осчастливил наш город другим восхитительным зданием – драмтеатром, а тогда я, мальчишка, просто не мог налюбоваться этим теремом-теремком с резным терракотово-палевым фасадом, украшенным чудо-башенками.
Из мемориальной доски на одной из стен я уже знал, что в октябре 1917-го здесь заседал 1-й общесибирский съезд Советов, на котором был избран Центральный исполнительный комитет Советов Сибири (Центросибирь). А ещё было мне известно, что в 1937-м, когда был репрессирован и расстрелян первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) Михаил Разумов, на замену ему из Ленинграда (от Жданова) прислали Александра Щербакова, который за один год своего здесь пребывания Восточно-Сибирский край переименовал в Иркутскую область и под крышей бывшего особняка купца Второва открыл Дворец пионеров.

На фото: когда-то особняк Второва, Дворец пионеров, в настоящее время - Дворец детского и юношеского творчества
Поэтому спустя десять лет имя Щербакова ему присвоят. А вообще быстро стал Дворец очень популярным: здесь открылось много разных кружков, к которым в годы войны добавились «военные» – пулемётный, радио и сандружины. К тому же тут собрали деньги на танк «Иркутский пионер», а участники местной агитбригады постоянно выступали в госпиталях для поднятия настроения больным и раненым.
После войны выбор кружков оказался ещё разнообразней. Например, только среди моих приятелей: Эрик Левашов ринулся в железнодорожный; Саша Флеккель овладел искусством игры на кларнете; Паша Явербаум совершенствовался как шахматист; Ирочка Бодрова стала примой в хореографическом. Кто-то рисовал, кто-то – клеил авиамодели, кто-то метил в моряки. А в кружке юных боксёров невеликий росточком Закарья Мигеров на ринге упрямо оттачивал своё мастерство, чтобы скоро, год за годом, аж подряд семь раз завоевать звание чемпиона РСФСР.
Меня же привлёк кружок "художественного слова", которое тогда вообще было в моде: если, например, у нас, на ангарском берегу, гастролировали Дмитрий Журавлёв или Антон Шварц, попасть в концертный зал удавалось не каждому. Эта странная на нынешний взгляд страсть мальчишки к, так сказать, «декламации» заставляла меня даже жарким летом, в столь желанные каникулы, жертвуя любимым волейболом, приходить во Дворец пионеров.
Кстати, в нашем кружке существовало непременное требование: надо много читать! Причём не «приключения» и не Бабаевского с его «Кавалером Золотой Звезды» (это и так «проходили» в школе), а серьёзную литературу. Читал я лет примерно с пяти и в войну, да и после, когда электричество чаще всего было отключено, по вечерам напряжённо вглядываться в строчки приходилось либо под керосиновой лампой, либо под мерцающий свет горящих поленьев или угля, сидя у открытой печной дверцы. Место «у печки» для чтения казалось особенно уютным. Именно в такой позе, поставив ноги на ведро с углём и склонившись к неверному печному огоньку, осилил, например, модный в ту пору толстенный роман Степанова «Порт-Артур».
А в кружке художественного слова мой «репертуар» во многом определяла «злоба дня». Вот так, в самом начале 1946-го, мне, ещё одиннадцатилетнему, пришлось, под началом Веры Александровны Измайловой, поскольку 10 февраля предстояли первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР, срочно разучить михалковское творение:
«Я – гражданин восемнадцати лет, // Я выбираю в Верховный Совет! // Выбрать по праву доверено мне // Лучшее имя в Советской стране…»

На фото: участники драмкружка в 1944-м, вместе с которыми (в третьем ряду, третья слева) Вера Александровна Измайлова и (рядом) директор Дворца пионеров Александр Николаевич Локтионов.
И потом эти вирши (в финале которых выяснялось, что лучшее имя, естественно, Сталин) декламировать не только со сцены нашего Дворца (ах, какой роскошный был там зрительный зал с потрясающим, «под Дейнеку» расписанным плафоном!), но и на разных избирательных участках.
А в 1947-м вся страна пребывала в радостном ожидании 800-летия Москвы, которое выпадало на 7 сентября, и я опять выдавал с разных сценических площадок:
«Цвети, Москва, свидетель славных встреч – // Чтоб звёзд твоих огни ещё сильней блистали! // Как не любить тебя и как нам не беречь, // Великий город, где живёт наш Сталин!»
И огромные заключительные главы двух поэм Маяковского – «Хорошо» и «Владимир Ильич Ленин» – не обошёл стороной…
А в 1948-м, поскольку комсомолу исполнялось тридцать лет, исполнял уже свои собственные вирши.
А в 1949-м, специально к 240-летию победы Петра под Полтавой, подготовил отрывок из пушкинской поэмы про Полтавский бой.
Кстати, любопытная деталь, передающая, так сказать, «аромат эпохи». Строки: «Швед, русский – колет, рубит, режет...» замученная бесконечными директивами Вера Александровна повелела мне читать с такой интонацией: «Швед!.. (большая пауза) Русский колет, рубит, режет...»
То есть: появился на поле боя швед, и русский его – колет, рубит, режет... Глупость, идиотизм? Увы, по той поре – вполне нормально: «партия и правительство» отчаянно боролись против «безродных космополитов», за русский приоритет во всем!
Поэтому успех Петра в далёкой Полтавской битве был как бы предрешён заранее: ну не мог какой-то плюгавый шведский вояка колоть, рубить и резать наравне с отважным русским воином.
А ещё готовила она с нами непременные «пионерские приветствия» для городских «торжественных заседаний общественности» в драмтеатре – накануне 8 марта, 1 мая и 7 ноября. Нас, «чтецов-декламаторов», там было обычно пятеро. В назначенный миг, когда сборная пионерская дружина, свой марш в партере вдоль зрительских рядов завершала, каждый из нас возникал повыше, в бельэтаже («моя» ложа – первая слева), и начиналось действо. До сей поры зачем-то застряли в памяти те некоторые «мои» строки. Например – восьмомартовские: «В дни, когда надев шинели, // Шли отцы на бой, // Наши матери сумели // Встать в единый строй…»
И в траурных январских «ленинских кострах», которые тогда Дворец устраивал неукоснительно, без нас тоже не обходилось. Мне было это тем более интересно потому, что в качестве кульминации «костра» возникал с «пламенной» речью «живой» Ленин – артист местного ТЮЗа Николай Иванович Улыбин в образе вождя революции, каким он представал в тюзовском спектакле «Юность отцов». И всякий раз перед «костром» я мог увидеть, как Николай Иванович, сняв валенки, в нашей «театральной» комнате, примыкавшей к сцене, «в Ленина» гримируется, и даже кое о чём его расспросить.
Но вообще-то главной заботой Веры Александровны был кружок драматический, и я там в некоторых спектаклях даже «премьерствовал». Да, после крохотной роли Мишки, слуги Городничего в «Ревизоре», и более значимой – хохмача Васи из спектакля по пьесе Любимовой «Золотая медаль» сыграл и Маленького Мука из известной сказки Гауфа, и академика Журавлёва в спектакле под названием «Зелёный шум», воспевавшим великий Сталинский план преобразования природы.

На фото: Грамота «за отличную декламацию и исполнение роли Васи в спектакле «Золотая медаль», которую вручили автору в мае 1948-го.
И в образе Валентина Листовского из спектакля по пьесе Лии Гераскиной «Аттестат зрелости» (кстати – параллельно с ровесником Васей Лановым на столичной самодеятельной сцене) тоже побывать довелось.
Маленькое дополнение. По ходу спектакля «Маленький Мук» моему герою три кошечки приносили «туфли-скороходы». И вот однажды вместе с таким «подношеним» обнаруживаю… любовную записку, авторша которой – совсем юненькая (на три года меня младше) «кошечка»: Танечка Гросс, кстати, дочь популярнейших звёзд иркутской «Музкомедии» – главного там комика, заслуженного артиста РСФСР Григория Семёновича Гросса и примадонны Августы Андреевны Воробьёвой.

На фото: участники спектакля 1948 года «Ревизор».
Конечно, наш «роман» продолжения не имел, тем более что скоро их семья перебралась в Москву, а я – на невский берег… Минули годы. И однажды, летом 1972-го, вечером выхожу я из своей редакции «Смены» на набережную Фонтанки, а рядом, на афишной тумбе БДТ, сообщение: «Сегодня на нашей сцене начинает гастроли Азербайджанский театр имени Самеда Вургуна». Далее из афиши узнаю, что открывается гастроль спектаклем по пьесе Эдуардо де Филиппо «Человек и джентельмен», где в роли Ассунты – заслуженная артистка Азербайджанской ССР Татьяна Гросс.
Вот это да! До начала спектакля – полчаса. Пользуясь тем, что в БДТ я «свой», мигом проникаю за кулисы и прошу кого-то из бакинцев позвать Татьяну Григорьевну Гросс. Появляется она: «Вы мною интересовались?» Я: «Где же, наконец, милая кошечка, мои «туфли-скороходы», которые жду от тебя уже почти тридцать лет?» Она вздрагивает, на мгновение застывает, а потом: «Боже мой! Маленький Мук!»… С той поры промчалось ещё почти полвека. Когда сейчас пишу это, поинтересовался в Интернете: «Где ныне находится актриса Татьяна Григорьевна Гросс?» И получил ответ: «В США».
В 1951-м прибыл в Иркутск сам Сергей Михалков, член комитета по Сталинским премиям, дабы посмотреть и оценить в нашем театре спектакль по пьесе славного местного драматурга Павла Григорьевича Маляревского «Канун грозы», посвящённой Ленским событиям 1912 года.
Кроме драмтеатра, знаменитый поэт, автор «Дяди Стёпы» и гимна Советского Союза, посетил Дворец пионеров. Решили там ему продемонстрировать и «юные поэтические дарования». Такие «демонстрации» были у нас тогда в моде: например, до общения с Михалковым довелось мне читать свои вирши и благородному Александру Яшину, и слегка черносотенному Сергею Васильеву (в августе 1948-го они приезжали на конференцию писателей Сибири и Дальнего Востока) и даже президенту Академии наук Китая Го Мо-Жо...
И вот теперь предстал я пред светлы очи Сергея Владимировича, черноволосого, черноусого (ему ж ещё и сорока не было), сияющего – на одной стороне груди – разными регалиями за боевые и трудовые подвиги, на другой – флажком депутата Верховного Совета СССР и тремя, на красных колодочках, золотистыми (все – первой степени) медалями с профилем Иосифа Виссарионовича.
Не скрою, Михалков мне казался небожителем. Завороженный всем его «иконостасом», смотрел на именитого гостя, словно кролик на удава. После меня выступил, тоже со стихами, Ваня Харабаров. Сергей Владимирович, вальяжно заикаясь, сказал, что у «первого товарища (то есть – у меня) уже кое-что получается, а вот второму надо ещё много учиться».
Поочерёдно пожал нам руки. Эту свою правую руку я потом пару дней не мыл. Когда четверть века спустя Михалков, уже с Золотой Звездой Героя Соцтруда на груди, вдруг заявился в мой «сменовский» кабинет и сам предложил взять у него – в связи с премьерой в акимовском театре очередной своей пьесы – интервью, я сразу напомнил настырному гостю о той давней нашей встрече. Он похлопал меня по плечу: «Значит, мы – старые знакомые!».
Кстати, о Харабарове. Напутствие Михалкова он воспринял очень серьёзно, поступил в Литературный институт и даже добился благосклонности Пастернака. На его даче в Переделкино вместе со своим приятелем Юрием Панкратовым Ваня буквально дневал и ночевал. Но, когда в стране началась «проработка» Пастернака за «Доктора Живаго», они, единственные из всех студентов Литинститута, Бориса Леонидовича предали, подписали против него грязное письмецо. Может, поэтому из жизни оба ушли рано.
Летом сорок седьмого, как и годом раньше, оказался я в пионерлагере «ИскрА». У нас почему-то говорили именно так, с ударением на втором слоге: «ИскрА», и в лагерной песне пелось: «Деревья нам макушками кивают, вожатые в машины нас сажают. На нас ребята смотрят с интересом – мы пионеры из "ИскрЫ"!». И было в этой самой «Искре», конечно, не так убого, как когда-то у меня в деревне Марково, но, по нынешним понятиям, всё-таки весьма бедно.
Однако жили мы интересно, в массовиках-затейниках уж точно не нуждались. А поздно вечером, когда наступал отбой, все, уже лёжа в койках (в каждом бараке – по пятьдесят коек: «отряд»), слушали «рассказчика». Рассказчиком мог быть каждый. В основном пересказывали книги. Я, например, помню, что довольно подробно передал содержание «Графа Монте-Кристо», «Отверженных» и ещё какого-то повествования про пограничника Карацюпу и его верного пса Индуса.
Кстати, когда позже, в 1955-м, в СССР приехал Джавахарлал Неру и вообще с «освобождённой» Индией установились добрые отношения, легендарного карацюповского пса, дабы Неру не обижался, во всей отечественной литературе немедленно переименовали: из Индуса – в Ингуса. И вот однажды, уже перед самым отбоем, заглядывает в наш барак старший пионервожатый, вызывает меня на крыльцо: «Хочешь стать комсомольцем?» – «Очень!» – «Тогда держи "Устав ВЛКСМ", готовься, через три дня поедем в Иркутск».
Годом моего рождения он почему-то не поинтересовался, а я через три дня, в Сталинском райкоме ВЛКСМ, соврал: мол, 1933-й. Так, довольно бойко ответив на все вопросы, 10 июля 1947 года получил долгожданный комсомольский билет. Поскольку до возвращения обратно, в «Искру», полчасика ещё оставалось, заскочил домой – похвастаться. Родичи были удивлены.
Зачем в двенадцать с половиной лет я ринулся в комсомольские ряды? Нет, вовсе не стремился быть «в активе», в разных там «комитетах», с юных лет торя себе дорожку (ох, сколько в последствие знавал таких розовощёких «активистов»!) в «начальники», в «номенклатуру». Просто, парень весьма общительный, деятельный, я хотел там, в комсомоле, использовать свою энергию что называется по максимуму.
Нет, повторяю, никогда не стремился стать комсомольским «функционером», ни разу ни в каком «выборном органе» не состоял, мне бы там было просто неинтересно. Зато обожал в одиночку выпускать стенгазеты – не «серьёзные», не «официальные», а хохмаческие, хулиганистые – в общем, с юморком. И организовывать разные весёлые представления и такие вечера отдыха (чтоб непременно с чем-то необычным, с особой «изюминкой»), которые потом люди вспоминают долго.
И позже, распрощавшись с комсомолом, я всегда и везде в редакции, Домжуре, доме отдыха, коллективной заграничной поездке, даже оказавшись, увы, на больничной койке, стремился придумать и осуществить что-нибудь этакое, в жанре «капустника», дабы окружающим стало хорошо. Например, оказавшись в больнице с инсультом, выпустил там две стенгазеты, а над входом на неврологическое отделение вывесил плакат: «Даже у последней стервы здесь вылечивают нервы!».
Вот так и жил-поживал, оказавшись в комсомольской семейке как бы преждевременно. Поэтому дружбы с Дворцом пионеров не прерывал. Причём дважды своему привычному «амплуа» этакого развлекателя пришлось изменить. И оба случая были связаны со... Сталиным.
Первый случай относится к августу 1948-го, когда в Иркутске состоялся первый областной пионерский слёт: Мне вдруг поручили читать с трибуны письмо делегатов слета, «адресованное самому товарищу Сталину». Надо ли пояснять, что две страницы этого «ответственного», сочинённого, видимо, в обкоме партии документа, я вызубрил наизусть.
И вот поднимаюсь на трибуну, начинаю, смотря в зал, «звонким, ликующим голосом»: «Москва, Кремль, товарищу Сталину. Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович! Вам, лучшему другу советских детей, шлют свой привет и пожелание доброго здоровья участники первого слёта пионеров Иркутской области».
И вдруг вижу, кинооператор, который весь наш слёт скрупулёзно фиксировал для киножурнала «Восточная Сибирь», а ещё, наверное, «для вечности», от кинокамеры оторвался и схватился за голову. И вот шпарю я дальше «звонким, ликующим голосом» письмо Сталину, а он не снимает. Почему? Может, что-то не так делаю?! Не то?! Кое-как (но таким же «звонким и ликующим») заканчиваю, спускаюсь с трибуны, а мне шепчут: «Срочно на выход!»
Оказывается, кинокамера сломалась в такой-то «политический» момент. И вот везут меня на «эмке» в помещение бывшего польского костёла, где уже давно – местная студия кинохроники, а там уже и трибуна установлена, и знамя за ней «на ветру» (от вентилятора) развевается. На фоне этого вьющегося полотнища я письмо в адрес Иосифа Виссарионовича наизусть отрапортовал снова.
Через неделю этот киножурнал в «Гиганте» «крутили» перед каждым сеансом. Узрел его и кто-то из моих дядьёв, который о том сразу поставил в известность остальных родственников. Они взволновались: «Как воспринял письмо лично товарищ Сталин?»
А ещё мне сегодня о том слёте, который продолжался два дня, напоминает сделанная в первый день, в соседнем с театром скверике, фотография – её опубликовала «Восточно-Сибирская правда». На этом снимке – группа пионеров, и мне (увы, видны лишь одно ухо, спина и тюбетейка) по-отечески улыбается сам первый секретарь комсомольского обкома Николай Салацкий (впоследствии Николай Францевич стал самым лучшим иркутским председателем горсовета).
Второе событие произошло спустя некоторое время, а именно – 21 декабря 1949 года. Стоял я в тот вечер в центральных дверях зрительного зала Иркутского драмтеатра и ужасно волновался. Ещё бы: ведь мне выпала великая честь возглавить городскую пионерскую (хоть, напомню, сам уже был комсомольцем) делегацию на праздновании семидесятилетия товарища Сталина! Торжественное заседание было в самом разгаре. Уже выступили представители рабочего класса и колхозного крестьянства.
Подоспела пора сказать взволнованное слово и «от интеллигенции». Речь произносил Георгий Марков, ещё не глава Союза писателей, ещё не дважды Герой Социалистического Труда, ещё не лауреат Ленинской и прочих почётных премий, а просто глава местных литераторов, автор романа «Строговы», безжалостно отхлёстанный (я сам был свидетелем, поскольку осенью 1948-го с помощью милого Павла Григорьевича Маляревского проник в этот же театральный зал, где собрались участники конференции писателей Сибири) Борисом Горбатовым за слабенькую повесть «Солдат пехоты». Потом, в годы долгого владычества Георгия Мокеевича на отечественном литературном Олимпе, повесть с большой помпой переиздадут под новым названием «Орлы над Хинганом».
Заканчивая речь, Марков воскликнул:
– Товарищи! Самое яркое солнце, имя которому – Сталин, сияет над всей планетой! Пусть же это солнце будет вечным!
И снова, в который уж раз за этот вечер, зал сотрясла овация.
А затем я печатал шаг по центральному проходу, к сцене, и, вскинув руку в пионерском салюте, на столь же высокой ноте испрашивал у председателя торжественного собрания соизволения произнести здесь взволнованное слово и нам, юным, каждый из которых «к борьбе за дело Ленина – Сталина всегда готов!» И запели горны, и вспыхнули алые галстуки, и зазвучали стихи:
«Быть преданным партии нашей всегда –
Наш долг и священное право.
Тому, чьим доверием юность горда,
Великому Сталину...»
И весь зал вместе с нами трижды выдохнул:
– Слава! Слава! Слава!
До лета 1952-го, когда шоры с моих глаз наконец-то начнут стремительно спадать, оставалось ещё два с половиной года…
Когда в 2015-м я, на пару недель вернувшись в город детства, снимал фильм «Город мой, город на Ангаре…», конечно, пришёл и в свой Дворец пионеров, который, хотя ныне зовётся иначе – «Дворцом детского и юношеского творчества», прелесть свою только преумножил. И зимний сад тут теперь возник, и плавательный бассейн, и зрительный зал, вместе с обновлённым плафоном и увеличенной сценой, стал ещё краше. Поднявшись на неё, постоял, подождал, но «туфелек-скороходов» мне никто не принёс… Я вздохнул, сказал на весь зал: «Всегда готов!» – и пошёл снимать свой фильм дальше.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
На главной фото: фото из «Восточно-Сибирской правды», где мне по-отечески улыбается первый секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Николай Салацкий. Август 1948-го.
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!