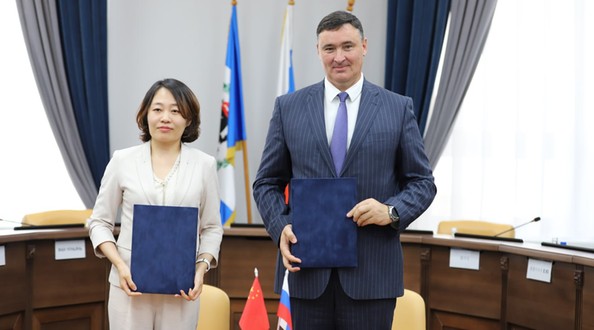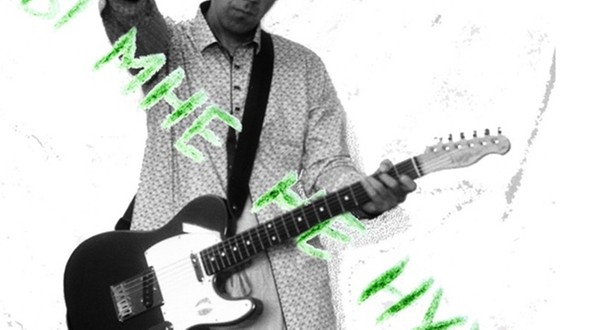Лев Сидоровский: «Дело надо делать, господа!», или про Олега Табакова

20 августа 2025
Уроженец Иркутска Лев Сидоровский рассказывает, что когда в конце 1970-х журналистские тропы свели его с Олегом Табаковым, то в разговоре вдруг выяснилось, что в годы их детства-отрочества много было схожего.
И любимые книжки почти одни и те же, и радиопередачи. И безрукий артист Сандро Дадеш в цирке, который всё делал ногами, и «чемпионат французской борьбы» с непременным негром по имени Франк Гуд. И драмкружки при дворцах пионеров. И стенгазеты «домашние» мы оба выпускали, и «театр» во дворе разыгрывали. И даже наши шеи совпадали: от 35 до 37 сантиметров.
Если мысленно прикинуть: где его Саратов и где мой Иркутск, а вот надо же... Но, с другой стороны, мы принадлежим к одному поколению мальчишек военной поры (с обязательным «выступлениями» в подшефных госпиталях) и жили в одной стране, которая называлась Советским Союзом...
Впрочем, дело, наверное, всё-таки не в «одном поколении», ведь и ровесники, даже родные братья порой бывают диаметрально разными. Тут, вероятно, скорее некая схожесть душ. Скажем, среди прочего мне очень дорого, что Олег Павлович называл себя «анти-антисемитом» и поступал соответственно. Ах, если бы я встретил подобных ему в приёмной комиссии МГУ, куда ещё при Сталине из своей провинции, с медалью, приехал, чтобы учиться «на журналиста», но мигом получил от ворот поворот. А у Лёлика (как его звали родные и друзья), слава Богу, на другой год (когда меня точно так же не желали видеть и под крышей ЛГУ) в училище МХАТа всё обстояло совсем иначе.
***
После того, как на излёте 50-х возник «Современник», я, чтобы туда попасть, разные «командировки» в Москву себе зачастую просто-напросто придумывал. И прямо с вокзала, даже рано утром, в поисках заветного «билетика» мчался на площадь Маяковского, где между памятником поэту и гостиницей «Пекин», в трёхэтажном сооружении, потом снесённом, располагалось это чудо.
И хотя дома товстоноговским БДТ «сладостно отравлен» был уже вполне, это ефремовское детище тоже для меня быстро стало весьма необходимым. А в Питере они гастролировали обычно в ДК имени Первой Пятилетки, который, кстати, вслед за «Современником» надолго приютил «Таганку», и вообще в толстиковско-романовском «великом городе с областной судьбой» сей Дворец культуры был чем-то вроде оазиса.
Конечно, сам Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Лиля Толмачёва (перечислять можно долго) – артисты замечательные, но и совсем юный Олег Табаков уже тогда в этой компании тоже выделялся.
Наверное, видел его почти во всех ролях и, уж точно, на всю жизнь запомнил. И Олега Савина из розовской пьесы «В поисках радости», которая потом на киноэкране будет называться «Шумный день», причём Табаков играл и там, и там, актёр со своим героем обликом и пластикой совпадал абсолютно.
И трёх его персонажей - американского туриста, фельдшера и продавца прохладительных напитков - из «Никто» Эдуардо де Филиппо, когда зрителю стало ясно, что Табаков не только хорош в характерных ролях, но и способен играть их сразу несколько.
И московского школьника Толика, который, не попав в институт, оказался на строительстве Ангарской ГЭС, из «Продолжения легенды» Анатолия Кузнецова.
И Славку из володинских «Пяти вечеров», хотя у нас Кирилл Лавров в этой роли понравился мне больше, и вообще Товстоногов эту пьесу, конечно же, поставил грандиозно, «с волшебством».
И опять-таки сразу трёх его персонажей из потрясающего «Голого короля» по Евгению Шварцу.
И в сочинённом чехом Вратиславом Блажеком «Третьем желании» пятидесятилетнего хама, маляра-алкаша, каждая фраза которого встречала хохот зрительного зала...
А ведь был ещё спектакль по Василию Аксёнову «Всегда в продаже», где Табаков в очередной раз виртуозно исполнил опять-таки три роли: заведующей «торговой точкой» Клавдии Ивановны (это ещё задолго до Калягина в телефильме про «тётю»!), лектора Клавдия Ивановича и Главного интеллигента Энского измерения, сильно смахивающего на Хрущёва. В том спектакле, по сути, ставился под сомнение сам советский режим, поэтому с той поры Табакова стали непременно приглашать на приёмы во все иностранные посольства.
А ещё фильмы, много фильмов: «Шумный день», «Чистое небо», «Люди на мосту», «Испытательный срок», «Война и мир». Работал на износ. И в двадцать девять лет инфаркт! Как сам позже признался, на больничной койке в голову лезли мысли, похожие на те, что одолевали Андрея Болконского, когда герой романа Толстого лежал на Аустерлицком поле. Главное, что понял, выйдя из больницы: «Впредь надо заниматься только тем, что сочту интересным и нужным». С тех пор так и жил.
***
Особо надо вспомнить его работу в гончаровской «Обыкновенной истории», которую мудро инсценировал Виктор Сергеевич Розов. Запомнившийся зрителю главным образом в ролях светлых мальчиков, Табаков (его персонаж) здесь по ходу спектакля из вот такого ангелоподобного романтика, не способного защитить свою жизненную философию и свой душевный мир от обыкновенной пошлости, перерождался в некое «кувшинное рыло», в монстра, который теперь будет запросто делать карьеру да хоть на чужих костях.
Об этом персонаже артист мне говорил:
– Мой Александр Адуев был, по сути, одним из идейных врагов и того же Олега Савина, который будённовской шашкой сокрушал полированную мебель, и Серёжки Львова из «Чистого неба», и Виктора Булыгина из «Людей на мосту», и Саши Егорова из «Испытательного срока». Причём врагом последовательным, приходящим к закономерному финалу. Мой герой как бы предостерегал мальчиков-максималистов, что если их дела, их жизненные поступки не будут соответствовать их идейной программе, то итог окажется именно вот таким: некая «романтическая» взволнованность, неоплаченная твоими поступками, приводит, как это ни печально, сначала к прагматизму, а потом к полному распаду души...
А вот таким было его мнение вообще по поводу своих любимых персонажей:
– Их объединяет «бремя страстей человеческих», потому что это люди, чьи души находятся в крайних состояниях. Меня в принципе занимают именно крайние точки состояния человеческой души, а узкий диапазон привлекает мало. И в жизни люди с малым диапазоном мне тоже неинтересны: знаете, есть такие «девять десятых под водой»? Слишком уж много развилось ныне подобных «айсбергов» с неподтверждённой подводной частью.
Шли годы, он становился всё старше, а проблемы, которые перед артистом возникали, оказывались всё более сложными, но вот вера оставалась прежней:
– Очень не хочется, чтобы Олегу Савину было за меня стыдно. Во всяком случае, когда стыжусь чего-либо в себе (бывает и такое), представляю судьёй и его, и моего сына, и мою дочь, и моих учеников, и моих товарищей, какими они в середине пятидесятых годов создавали «Современник».
***
Мы встретились на съёмках «Обломова», и наш долгий, в несколько дней, разговор то прерывался, то продолжался, когда исполнитель главной роли имел такую возможность.
К той поре Ефремов уже давно был худруком МХАТа, а Табаков уже по собственной инициативе прекратил в «Современнике» вполне успешную деятельность на посту директора. Оставаясь там на «разовых» ролях, он из трёх тысяч московских школьников отобрал сорок семь, которых стал обучать актёрскому мастерству. Потом лучшие пятнадцать составили Студию. Вместе очистили и отремонтировали заброшенное помещение бывшего угольного склада на улице Чаплыгина, которое позднее превратится в знаменитую «Табакерку». Ну, зачем, спрашивается, преуспевающему актёру была эта обуза?
– Как говорили основоположники Художественного театра: «Студия – это нарождающаяся жизнь!» Вы заметили, что семьи, в которых есть дети, как правило, счастливее тех семей, где детей нет? Дети – здоровье семьи, прежде всего – духовное здоровье. Значит, и студия – процесс естественный, жизненный. А интереснее жизни трудно что-либо придумать.
Так его студия постепенно превращалась в знаменитый театр – да, из грязного подвала Олег Павлович вылепил, может, самый человеческий уголок новой театральной Москвы! К тому же, еще в 1983-м перейдя по приглашению Ефремова во МХАТ, Табаков стал там ярчайшим премьером. Вспоминаю, как хороши были его Сальери в «Амадее», Сорин в «Чайке», Фамусов в «Горе от ума», Бутон в «Кабале святош», а в «Обыкновенной истории» весьма «повзрослевший» исполнитель на этот раз предстал уже Адуевым-старшим.
***
Потом он стал руководить аж двумя коллективами, причём принял МХАТ (из названия которого мигом выбросил академическое «А») в плачевном состоянии и именовал себя «кризисным управляющим, генералом из ведомства Сергея Шойгу». И случились в тех стенах добрые перемены: кроме Основной и Малой сцен, появилась еще и Новая; и были там почти всегда аншлаги, а у актёров – самый высокий в столице заработок.
В своё время он успел и ректором школы-студии МХАТ поработать. И за океаном, в Бостонском университете, театральную студию «Russian-American Performing Arts Center», который сами американцы назвали «школой Станиславского», основать. И немалое количество спектаклей у нас и «за бугром» поставить. И стать весьма полезным в президиуме Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.
Список его киногероев приближался к двумстам, и большинство из них нам памятно, ну а интонацию его мультяшного жуликоватого Кота Матроскина познала и разучила вся страна. Он стал и народным СССР, и лауреатом Госпремий СССР и РФ, а ещё оказался удостоен множества профессиональных званий, премий и наград. И ордена заимел не только «наши», но и зарубежные.
Да, он был сверх успешным, и это хорошо. Но лично мне иногда претило его, ну что ли, нескрываемое самодовольство, с которым порой откровенничал на телеэкране.
И всё же этот воистину Артист, непревзойдённый лицедей был, прежде всего, Богом избранным трудягой, причём всегда востребованным:
– У меня была соседка Марья Николаевна. Сидела с маленьким Антоном Табаковым. А когда он пошёл в школу, слегла. Но встала, потому что моя первая супруга, Людмила Ивановна, родила девочку Сашу и с ней нужно было нянчиться. А потом Марья Николаевна отвела в школу Сашу Табакову и умерла. Мы живём, пока востребованы.
Он был убеждён:
– Мужчине, который не в состоянии прокормить жену и детей, надо в паспорте писать: «Пол – средний».
В наше время, когда со всех сторон было нытьё насчет «кризиса», он продолжал вовсю вкалывать:
– Я становлюсь банальным, но повторяю вслед за моим отрицательным героем из пьесы Чехова: «Дело надо делать, господа!» Этот принцип исповедую и, когда что-то удаётся, знаю, что и этот отрезок времени прожит не зря...
И, пока оставались силы, он делал дело.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Фото автора. Таким он его в 1956-м узнал и полюбил.
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!