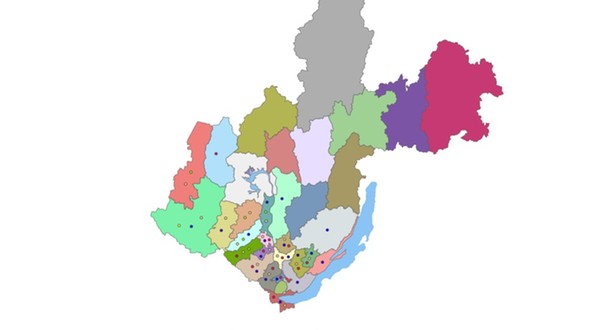Андрей Гедеон: «Не существовать, а жить»

22 декабря 2015
Пространство собора, залитое солнечным светом. В центре – человек с саксофоном. Мелодия «Ave Maria». Сначала – знакомая, Баха. Потом – встречаемые реже – Моцарта, Листа, Сен-Санса, Леонковалло, Мендельсона. Все – прекрасные, гармоничные. Неземные. Чудо, при рождении которого ты присутствуешь.
Но, в отличие от других чудес, можно поговорить о нем с его создателем – музыкантом, математиком, историком, исследователем Андреем Гедеоном.
«Раз ты музыкант, играй «Розарий»
– Несколько лет назад в Праге я случайно попала на камерный концерт в небольшом старинном доме в одной из улочек. И услышанное там исполнении казалось бы знакомой «Ave Maria» словно заново открыло мне ее красоту, душу, сокровенный смысл. С того вечера я стала иначе слышать и ее, и многие другие «созвучные» ей мелодии. После Вашего исполнения «Розария» я думала о том, насколько же сильным должно было быть какое-то переживание, направившее Вас на создание этого музыкального чуда.
– Да, у меня была такая история-откровение. Десять лет назад, в 2005 году, я был в итальянском городе Ланчано, где увидел материальное свидетельство евхаристического чуда, которое произошло здесь в VIII веке: во время мессы, в присутствии всех кто был там, облатка превратилась в кусочек сердца, а вино – в кровь. В наши дни была сделана лабораторная экспертиза, которая подтвердила, что в кусочке сердца присутствуют волокна миокарда, а кровь первой группы, положительного резуса. Это чудо не объяснено никак, кроме как божественным вмешательством. Для меня это было откровением.
В какой-то момент в санктуарии, храме Святого Франциска, больше известном как святилище Евхаристического чуда, где выставлены эти мироносицы, я оказался один (что там большая редкость), оставшись наедине с Богом. И поймал себя на мысли, что все едут сюда, чтобы попросить что-то у Бога, и никто не спрашивает Бога: «Что я могу для Тебя сделать, что могу Тебе дать, чтобы это было достойно чуда жизни, которое я получил?». Сознание было освобождено от суеты, душа открыта, разум чист – особое состояние, в которое попадаешь в намоленных местах, и мне в душу пришел ответ, что раз ты музыкант, то играй, и следом отчетливо услышал внутри себя одно слово – «розарий» (молитва, читаемая по традиционным католическим четкам – авт.).
Я подумал, что где-то есть такой музыкальный молитвенный розарий, который мне надо найти и повторить, как-то показать миру. Стал искать – и обнаружил, что за две тысячи лет никто такого музыкального проекта не сделал. Сама молитва «Розарий» состоит из вступления «Отче наш», молитвы, во время которой десять раз упоминается «Ave Maria», завершения «Глории» в виде прославления божественного триединства. Идея создать такой «Розарий» показалась мне интересной, тем более я знал, что многие композиторы писали «Ave Maria».
– Чьи варианты «Ave Maria» Вы в то время уже исполняли на своих концертах?
– Чаще – Франца Шуберта и Джулио Каччини, играл в дуэтах с органом, скрипкой. Про то, что есть еще, знал, но подробно их не изучал. Теперь же засел в архивах, начал отправлять запросы по всему миру.
В Ватикан, как можно было бы предположить, я не обращался: в нем нет как такового нотного архива, в основном там хранятся исторические и теософские документы, а кроме того, туда очень сложно получить доступ, на это ушло бы несколько лет. Больше всего помогли архивы классических партитур Москвы, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Постепенно у меня получился всемирный проект. Всего поиску нот, их истории, биографиям композиторов и времени, когда они жили и сочиняли музыку, я посвятил четыре года, сформировав за это время собственную коллекцию из 74 вариантов «Ave Maria».
После серьезного отбора по многим важным для меня параметрам для проекта я оставил четырнадцать партитур, из которых от четырех, с болью в сердце, пришлось отказаться, хотя они гениальны музыкально и тематически. Потом была скрупулезная техническая студийная работа, поиск звукорежиссерских решений, творческие изменения – и в результате получился проект «Розарий».
«Ave, Maria» от влюбленного композитора
– Самая старая партитура «Ave Maria» датируется 13-14 веками. Она есть у Вас?
– Да, но партитуры того времени совсем простые, незамысловатые, ведь тогда в нотном стане было четыре строчки и ноты квадратные, не было расхождения на два-три голоса, преобладало унисонное пение, текст оказывался первичен, а мелодия вторична, в основном писали григорианские хоралы. Я же для аранжировок планировал выбрать мелодии сложные, гармоничные, показывающие вершину развития музыки, ее симфонизм.
– А какая самая сложная?
– Их тех, которые вошли в мой «Розарий» и вообще одна из тех, которые я нашел, – Феликса Мендельсона. В ней несколько частей, технические партии сделаны очень динамически непросто, несколько раз меняются темп, тональности, настроение, техника, фактура. В ней я увидел некий апофеоз, квинтэссенцию смыслов этой молитвы, поэтому она у меня десятая, завершающая, и после нее идет «Глория».
– Имя одного композитора, «Ave Maria» которого включает необычайно красивую партию органа, я никогда раньше не встречала – это еще одно найденное сокровище из архива?
– О, с этой мелодией получилась интересная история. Однажды в материалах из канадского архива я совершенно случайно обнаружил партитуру мелодии, которая показалась мне гениальной. Имя автора – да, действительно – было совсем незнакомо. Начал искать биографию композитора, и оказалось, что Луи МадридКаллейя – это ныне живущий автор, написавший свою «Ave Maria» в 26 лет. Каково же было мое потрясение, когда я обнаружил его на Фейсбуке. Написал, спросил, можно ли его мелодию использовать в моем проекте, в хорошей компании композиторов – Шуберта, Баха, Сен-Санса, Грига. Он моментально ответил: «Ok, только с одним условием: я хочу потом получить диск». С тех пор мы поддерживаем теплые отношения, и в видеоверсии «Розария», которую я готовлю сейчас, хочу сделать с ним интервью, чтобы он рассказал свою историю.
– Невероятно, новая «Ave Maria» в современном мире. И история, наверное, романтичная?
– Конечно. Луи Мадрид Каллейя филиппинец, который эмигрировал в США, окончил Нью-Йоркскую консерваторию. Когда написал диплом, защитился и получал звание магистра, был влюблен, и в качестве благодарности за это чувство появилась душевная потребность написать «Ave Maria». По его рассказу, она далась ему необычайно легко: сел писать утром и завершил в обед. При этом чувствуется, что каждая нота там дышит вдохновением: получилось воздушно, динамично, умно (главное, что мне нравится, – это умная музыка).
Написав, зарегистрировал авторское право на мелодию и забыл о ней, приняв приглашение стать дирижером симфонического оркестра в Канаде. И, может, не вспомнил бы о ней, если бы через десять лет после ее создания в один день одновременно не пришли два запроса на ее использование: от меня из Сибири и от детского хора из Польши, который хотел исполнить ее на фестивале хоров. В Польщу он сам ездил дирижировать, для моего «Розария» записал партию органа, прислал партитуру, и я уверен, что когда-нибудь встретится с ним лично и мы сыграем вместе вживую.
Кстати, также оригинальную запись для другой «Ave Maria» – Руджеро Леонковалло – мне прислали из Новой Зеландии. Они нашли очень редкую партитуру и записали партию живой арфы.
Неоднозначная «биография» партитур
– С какими мелодиями еще связаны истории, которые Вас особенно удивили, потрясли, вдохновили?
– За четыре года их было много, все партитуры вызывали много эмоций, их сопоставление и проникновение в историю рождало открытия – и музыкальные, и касающиеся вообще развития стран, где они были созданы. Расскажу несколько.
Например, при выборе десяти мелодий для проекта под очень большим вопросом были самые известные «Ave Maria» Баха и Шуберта, потому что они не писали их именно как молитвы. То, что что мы знаем как «Ave Maria» Иоганна Себастьяна Баха, – это первая часть клавира, которую уже Шарль Гуно немного переработал и положил на музыку текст молитвы. В таком соавторском варианте она стала знаменитой.
Похожая история в процессе работы выяснилась и с якобы «Ave Maria» Петра Чайковского. Из-за этого у нас даже вышел конфликт с московской составительницей сборников нот «Ave Maria».
В выпущенном ею пятом томе я обнаружил «Ave Maria» Чайковского и удивился, потому что знаю его биографию, в которой есть эпизод скандала композитора с московской патриархией как раз из–за церковной музыки: он отправил прошение написать всенощную и получил отказ, в знак протеста написал ее и публично разорвал. После чего подал иск на патриархию в суд и выиграл его, совершив фактически невозможное. Поэтому для меня было странным увидеть эту партитуру. Спросил составителя, она рассказала, что это была ее инициатива: она взяла этюд, который примерно совпал с текстом молитвы, самостоятельно положила его на слова «Ave Maria» и издала. Для меня такой вариант неприемлем, я не счел его авторской «Ave Maria» и даже не рассматривал, так как всегда внимательно и трепетно отношусь к первоисточникам. Создавать музыку для молитвы надо с чистыми помыслами.
С «Ave Maria» Франца Шуберта, включенной в итоговый вариант проекта, тоже не все однозначно. Изначально он писал не молитву, а песню на стихи Вальтера Скотта – «Третью песню Эвелин». Она про маленьких девочек, которые, убегая от грозы, спрятались в пещере и запели, начав со слов: «Аве Мария, спаси нас от ненастья». И теперь есть две версии этого произведения – как песня и как церковная молитва, которая появилась позже и принята официально, хотя, если присмотреться, видно, что как текст неловко располагается в музыке, есть много нестыковок мелодии со словами.
«Круг красиво замкнулся во всех смыслах»
– Как Вы подбирали «обрамление» для десяти «Ave Maria»?
– «Отче наш» – канонический вариант, а вот «Глорию» сначала хотел написать сам, даже структуру разложил в голове, а потом на глаза попала партитура Иоганна Ринка, и оказалось, что если положить рядом его и мою структуры, то они будут почти идентичны, с той только разницей, что у него уже расписаны все ноты. И я взял его вариант.
Интересная история была и с обложкой. Будучи в Киеве, я познакомился с художником-кузнецом (к сожалению, во время начавшейся войны он пропал без вести, полтора года от него нет известий). Я рассказал ему, что для обложки проекта ищу розу, и он подарил мне ее выкованную, настолько потрясающе сделанную, что кажется, будто она настоящая.
Когда обсуждали обложку с фотографом, я подробно обрисовал, как вижу воплощение своей идеи: мне был нужен венок из десяти роз. Для этого привезенный цветок предстояло сфотографировать с разных ракурсов так, чтобы образы не были похожи друг на друга. Когда мне прислали эскиз обложки, в получившемся венке я увидел идеальный образ того самого евхаристического чуда. И чудом было то, что фотограф «вылепил» именно такой венок, хотя я не говорил ему об евхаристии, сподвигнувшей меня на создание «Розария». Я смотрел на венок, и понимал, что круг во всех смыслах замкнулся, обложка стала возвращением к моменту и месту, где мне пришла идея «Розария».
Я часто думаю о том, что в моем «Розарии» математически, художественно, музыкально все сошлось очень точно, с соблюдением всех законов физики, математики, гармонии – все в нем по «золотому сечению». Очень редко бывает, когда проект получается настолько цельный, что сам удивляюсь как человек, который любит математику, историю, музыку, живопись.
«Молитва за себя – самая сложная»
– Вы исполняете «Розарий» и на церковных мероприятиях, и на отдельных концертах, но всегда сохраняются особенности восприятия слушателей, например, между мелодиями никогда не звучат аплодисменты.
– «Розарий» – это не светский проект, он имеет статус действующей молитвы, церковный сертификат, приравнен к молитвенному богослужению. Поэтому между исполнением «Ave Maria» нет аплодисментов: по смыслу это не десять отрезков, а цельная молитва из нескольких частей.
«Розарий» – это проект для вечности, и слушать его – тоже серьезная работа, как и играть. Когда мы с женой составляли текст, который будет сопровождать исполнение «Розария», то придумали сделать его концептуально в виде спиралевидной молитвы, которая идет от простого к сложному. Проще всего молится за весь мир, чтобы всем было хорошо, за страну, город. Просто молиться за семью, потому что мы знаем, какие в ней есть сложности, и можем просить сил всем членам семьи пережить их. А самое сложное – молиться за самого себя, просить за себя, поднимать в душе самое сокровенное. Это молитва не вслух, а про себя, и приближение к ней происходит в течение всего «Розария», композиция которого постепенно готовит приход слушающего человека к самому сложному.
Это неимоверно трудно – даже про себя произнести: «Господи, открой мне, что мне на самом деле нужно». Ведь многие до смерти не догадываются, что им нужно на самом деле. Беготня житейская отвлекает, а когда остаются один на один с Богом – понимают. К сожалению, часто только перед смертью. Однажды мне пришлось навещать друга в хосписе, и я заметил, что все пациенты говорят одно и то же: «Жил суетно, а теперь, когда поправлюсь, тогда начну жить». Но «когда поправлюсь» там не бывает.
В хосписе страшно, но в нем бывает полезно оказаться здоровому человеку, потому что там приходит понимание, что жить надо настоящим. Хочется, чтобы люди, будучи здоровыми, сильными, талантливыми, приходили к понимаю того, что надо не существовать, а жить. Что самая большая драгоценность, которой они обладают, – это возможность жить.
Мне это очень помогало в трудные периоды жизни. Однажды лежал с переломами в больнице. Вокруг – бесконечные стоны, жалобы. И я сказал мужчинам просто: «С ума вы не сошли, перелом заживет, вам повезло, что остались в живых, так что переставайте стонать и думайте о своей жизни». Помогло. Отчаяние – это эмоциональное состояние, его можно преодолеть и в любой ситуации начать все с начала. Раньше некоторые уезжали и основывали на новом месте монастыри, но годятся и не такие радикальные методы, важно понять: «Я могу идти правильным путем».
А понять это можно во время просьбы к Богу о раскрытии своего предназначения. Сложнее этой молитвы уже ничего не существует. Это верх эмоциональных, физических, психологических сил. Не каждый осмелится начать. Поспособствовать этому призвана самая динамичная, громкая «Ave Maria» Мендельсона. Она дает правильный результат: у слушающего происходит катарсис, уходит отчаяние, опустошенность, перемалываются внутренние противоречия и на их месте в душе возникает чистое пространство. И понимаешь: вот она, жизнь, и не так уж она плоха, и есть шанс что-то изменить.
Осознание этого момента заложено и у Мендельсона, и в проекте в целом. В нем столько наложений всех правил, законов музыки и мироустройства, что он становится выше человеческих возможностей. Поэтому я не приписываю себе авторство, понимая, что был инструментом для исполнения высшего замысла.
Знаете, у меня много концертов, кроссоверных, где я играю рок, блюз, джаз-рок, современный рок в барочном стиле или классику в роковом стиле. В работе постоянно какие-то новые проекты. Но «Розарий» – это особенный проект для меня. То, чем я могу гордиться. То, что останется, когда меня не станет. В этом есть высшее счастье для творческого человека.
«В жизни вообще все не зря»
– Как получилось так, что выпускник биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета (кафедры «Гидробиологии и зоологии беспозвоночных») занялся разнообразными музыкальными проектами?
– Да, история получилась немного смешная, но жизненная. Музыкой я начал заниматься с трех лет: сначала было фортепиано, аккордеон, потом гитара и саксофон (который с 12 лет стал основным инструментом). Осваивать все это мне помогали хорошие учителя, мне повезло. Но музыка музыкой, а классического университета было не миновать: в нашей семье принято иметь высшее образование.
Факультет для меня выбрал мой дядя – специалист по морским млекопитающим, авторитетно заявив: «Учись на биолога, потом к себе в Норвегию заберу, мне в команде сотрудник нужен, который не подставит». Пришлось идти на биофак. Когда был на пятом курсе, дядя умер, так что моя карьера гидробиолога закончилась, не начавшись. Диплом положил на полку и больше ни разу о нем не вспомнил, но полученные во время учебы знания пригодились: прежде всего, дали понимание основ мироздания, законов гармонии, ведь если в природе что-то происходит определенным образом, то и в музыке так же.
Пока формально учился на биофаке, неформально ходил к друзьям в другие вузы изучать менеджмент и маркетинг, плюс был плотный график музыкальных выступлений: работал в четырех группах – двух джазовых и двух рокерских, в дополнение занимался собственным проектом. И я абсолютно уверен в том, что все, чему я тогда везде учился, было не зря. В жизни вообще все не зря.
А получать знания продолжаю до сих пор, люблю общаться с теми, кто умнее меня, опытнее меня. Сейчас самостоятельно открываю для себя историю Средневековья, историю музыки того времени, мировую историю. Такой особенный интерес возник, когда недавно пригласили в проект и попросили сделать музыкальное оформление аудиокниги, в основу которой лег текст, 500 лет назад написанный одной монахиней.
Цель мне поставили простую: «Сделай отбивки между главами». Я задумался: «Это же просто, пошло и вульгарно. Как на спортивной игре между таймами несколько аккордов. Что-то не то». Озадаченный, стал размышлять: этот человек жил в Испании пять столетий назад, а какая музыка там звучала? За ответами снова «нырнул» в архивы. Мне дали неподъемную «глыбу» информации. Попросил только церковную музыку – «глыба» стала чуть меньше. Три недели я перелистывал партитуры (и занимался бы этим дольше, если бы не был ограничен во времени) и с каждым днем все сильнее удивлялся.
Да, я хорошо знал, насколько великолепно то, что создали флорентийская, генуэзская, венецианские музыкальные школы, но совсем не знал испанскую. И теперь открыл буквально другую планету испанской добаховской музыки. Это перевернуло привычную музыкальную «вселенную». Ведь все современное образование начинается с того, что до Баха ничего не было, а потом откуда-то «прилетел» Бах – и дал нам хорошо темперированный клавир и всю музыкальную фразеологию, структуру, квадратные секвенции, – то есть весь базис, который у нас есть. А оказалось, до этого существовали несколько базисов, которые им были упразднены.
– Чем та музыка принципиально отличается от «привычной»?
– Современного неподготовленного человека та добаховская музыка или сведет с ума, или поставит в тупик из-за того, что будет просто непонятна, потому что она завязана на слове, тексте, четырехголосье, где каждый из голосов ведет партию, не зависимую от других. Читаешь теноровую, баритоновую, альтовую партии – и понимаешь, что они никак не связаны друг с другом. Начинаешь исполнять одновременно – и получается идеально гармоничная музыка. Это не секвенция, не аккорд, который обыгрывается, это – четыре мелодии, которые, звуча одновременно, «делают» общую безумно красивую незнакомую музыку.
Для меня это было потрясение. От того опыта игры добаховской музыки полгода не могу отойти, те мелодии уносят в космос и не отпускают. Такой музыки я раньше никогда не слышал – и был беднее. А сколько школ еще не открытых, сколько еще композиторов остаются только в архивах. Сколькими богатствами мы не пользуемся.
Вместо этого, если сейчас посмотреть на ситуацию с общей культурой, то будет очевидно, что мы находимся в регрессе. Во время «серебряного века» мы видим взлет литературы, живописи, архитектуры – до того, как хрупкую гармонию разрушил абстракционизм. И весь XX век прошел под девизом разрушения – кубизм, минимализм, стеклобетон в архитектуре. То же и в музыке: современные технохаусы – это ведь шаманские камлания, которые вводят в транс. Мелодия и гармония ушли, осталось состояние наркотического оцепенения.
Я говорю об этом без оценок, просто констатирую ситуацию. И к нынешнему регрессу отношусь не как к падающей параболе, а как к синусоиде, считая, что любой регресс – это шанс для возрождения, подъема. Сейчас он настолько глубокий, что проскочил не только XV –XVI век, а ушел в палеолит, нам только в пещеры осталось вернуться. Как сторонник прогресса, думаю, после достижения низшей точки деградации линия синусоиды развития неуклонно будет подниматься вверх, и мы увидим и услышим много нового и необычного. Как сейчас, например, кроссоверные концерты, когда мы смешиваем стили: классику играем в блюзе, «Нирвану» – в барокко или джазе. И в Иркутске уже есть потрясающие проекты, в которых я участвую, они по-новому откроют и музыку, и восприятие жизни и искусства в целом.
– Например?
– Один из новых проектов связан с немым кино, существовавшим с 1897 по 1927 год, до появления звукового. Когда на экране шла «безголосая» картинка, в зале ее «озвучивал», играя на инструменте, тапер. Тогда не было партитур, он просто импровизировал. Сейчас я возвращаюсь в эту профессию столетней давности, и мне это очень интересно.
Идею проекта по музыкальному оживлению немого кино дал Сергей Летов, организовавший первые успешные показы в Москве и Новосибирске с Романом Столяром. В Иркутске, планирую, стартанём в январе: сейчас ко мне в гости как раз приехал замечательный итальянский музыкант Лука Сартори, мы все придумаем, отрепетируем и устроим показы немого кино под дуэт живого органа и саксофона. Будет вкусно! Потом думаю подключить диджеев, но не «вертушечников», а тех, кто умеет работать в музыкальных программах. И проект начнет расти.
Дудочки, звенелки и саксофон собственной сборки
– Вы учились играть на фортепиано, аккордеоне, гитаре и саксофоне, экспериментируете со смешением музыкальных стилей, а еще на своей странице в соцсетях вскользь упоминаете о любви к редким мастеровым инструментам. Что это за история?
– Да, есть у меня страсть такая – ко всему, что гудит, дудит и издает другие разные звуки. Мои друзья, зная это, из путешествий привозят мне всякие дудочки-звенелки-тарахтелки. Когда приезжаю в Познань, обязательно иду в Музей музыкальных инструментов с богатейшей коллекцией европейских и мировых экземпляров. Инструменты для меня –предмет не просто любования и игры, но и изучения: смотрю на них с точки зрения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), которой занимался долгое время и продолжаю с удовольствием это делать.
Так, одно время плотно общался и дружил с двумя инженерами из Кстово, городка под Нижним Новгородом. Создавали они невероятные вещи. Например, как-то смотрели концерт и обратили внимание на лазерную арфу. Решили сами сделать такую – и сделали. Потом увидели и собрали терменвокс – инструмент, на котором играют, не касаясь руками, а только приближая их к двум антеннам – высоты нот и громкости (кстати, именно с помощью такого инструмента в 1960-80 годы озвучивали все фантастические фильмы).
Поэтому, когда я узнал, что в Швейцарии изобрели синтофон – электронный саксофон – мечту, которая стоила нереально дорого – 7 тысяч евро, я сразу написал им: «Ребята, а вам слабо?». Они в ответ: «Пиши техническое задание, сделаем». Я и написал на 21 страницу – и скоро получил от них плату. Теперь предстояло смастерить для нее корпус. Обратился в музыкальный магазин, забрал у них со склада уже не подлежащие восстановлению инструменты и стал экспериментировать, потому что иным путем, кроме как практическим, понять, какое точно расстояние необходимо, невозможно. В результате, пока собирал корпус, извел восемь инструментов. Впервые в жизни паял. Наконец, собрал свой инструмент и исполнил первую мелодию. Это было здорово!
Но использовать на концерте свой синтофон не успел: его забрали в Москву, в создающийся музей музыкальных инструментов, куда собирали как фабричные экземпляры советского и российского производства, так и произведения «самоделкиных», для которых выделили отдельный зал, с полным доступом к инструментам. Там же сейчас хранятся все инструменты из Кстово, а самих талантливых инженеров пригласили на работу на запад: одного забрала берлинская лаборатория, другого – лондонская. В Кстово никого не осталось.
«Музыка чистоты и красоты Байкала»
– Создавать «Розарий» Вам помогали музыканты из Новой Зеландии и Канады, записавшие тему органа и арфы для двух композиций, в Иркутске Вы принимаете участие в проектах с другими музыкантами, сейчас готовите проект с итальянским органистом. Такие мызыкальные союзы – только на единичный проект или творческие отношения в них могут развиваться?
– Про различные творческие союзы и все, что с ними может быть связано, я задумался после одного разговора с Сергеем Летовым во время его приезда. Мы беседовали об иркутских музыкантах, потом он рассказывал, какие таланты есть в Новосибирске, Кемерово, Омске, Абакане, что в Красноярске такая творческая молодежь, что ребята в 25 лет получают мировую известность. То есть разговор постоянно в течение целого вечера крутился только вокруг того, что происходит в городах Сибири. И я ему говорю: «Почему же так получается, что мы слушаем московских артистов, которые зачастую исполняют примитив, глупый, пошлый, вульгарный, в то время как рядом с нами, внутри Сибири, так много шикарных проектов, такой классный, обалденный базис для качественной музыки? Почему мы не знаем, что в соседних городах происходит? Ведь нам на десять лет вперед хватит поводов для знакомства, проведения перекрестных фестивалей, совместных проектов, например, Иркутск–Улан-Удэ, Иркутск-Новосибирск».
Думаю, причина такого «незнания» – в отсутствии национальной культуры: люди очень легко ведутся на так называемую «популярную» музыку и не знают, что в Иркутске есть музыканты, которые круче московских. Уверен, что можно вывести сибирскую культуру на мировой уровень – она оригинальная, умная, мощная, классная, наши проекты выходят за рамки музыки: фотографы объединяются с танцорами, художники – с музыкантами. Для этого нужно преодолеть много психологических барьеров (например, что «все решает Москва») и вместо них принять другую «идеологию» – что мы самодостаточны, самобытны. Суть Сибири – смешение стилей, религий, думаю, будущее как раз за сибирской музыкой.
Любопытен еще один момент, который заставляет о многом задуматься: сейчас наш регион находится в том же положении, что Америка – обе территории открыли более 300 лет назад, на обе первым понаехал «смутный народ», ссыльные, каторжные. При этом в Америке придумали джаз, рэп, кантри, техно (правда, все это получило идеальное развитие в Великобритании, но родилось-то в Америке), а Сибирь до сих пор известна только специфическими каторжными да тюремными песнями. Но когда проводишь такие исторические параллели, мне кажется, что наша музыкальная культура, которая есть, но пока не получила массовой известности, еще «выстрелит», как американская. Вместо злой честной музыки каторжного народа должна появиться математически чистая музыка, эмоционально чистая, «замешанная» не на арестантской боли, а на чистоте и красоте Байкала, бесконечных сибирских просторах, знаменитом сибирском холоде. То есть музыкантам надо впитывать окружающее и превращать в искусство.
Я даже уже пробовал переводить на музыкальный язык огромные сибирские расстояния (играть не аккордами, а выходить за рамки октавы) и резко континентальный климат, когда жутко холодно зимой и жутко жарко летом (неустойчивые интервалы, опасные, диссонирующие и требующие разрешения). Показал друзьям музыкантам, предложил попробовать играть в таких рамках, включил блюзовую минусовку – и случилось что-то настолько необычное, неведомое ранее: я услышал то, чего до нас не было, но что близко к тому, что можно назвать исконной сибирской музыкой, что уносит в какое-то другое музыкальное измерение.
Показал примерную партитуру Михаилу Арестову и Евгению Якушенко, они все поняли и прочувствовали. Теперь будем делать электронную сибирскую музыку, музыку сибирского возрождения, объединяющую музыкантов под общей идеей, которая обоснована средой, где мы живем: будем играть Сибирь, Солнце, Байкал, тайгу, людей. В этом и есть суть искусства: не повторять чужие банальности, а создавать свои мелодии. Это хорошее настоящее и будущее, которое мы делаем сейчас – то, что интересно нам, и может стать интересным огромному количеству людей. И иметь причастность к такому делу – невероятный кайф!
Автор: Анна Важенина
Фото Николая Урсуленко
Возрастное ограничение: 16+
В наших соцсетях всё самое интересное!