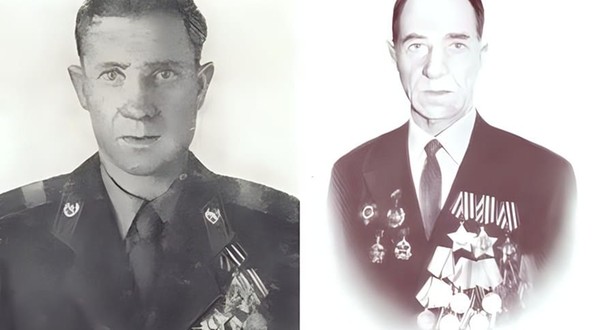Лев Сидоровский: Соловей и клетка, или к 120-летию Вадима Козина

23 апреля 2023
120 лет назад родился неповторимый певец Вадим Козин. О нем вспоминает уроженец Иркутска, журналист Лев Сидоровский.
Этот чарующий тенор перед войной благодаря радио и патефонам звучал с утра до ночи. Одно из моих детских воспоминаний: лето, наш двор, и из каждого распахнутого окна «Осень, прозрачное утро, небо – как будто в тумане…»; «Мой костёр в тумане светит…»; «Давай пожмём друг другу руки».
И всё-таки поименовать Вадима Козина «поющим голосом своей эпохи» не решаюсь: ведь было немало и других артистов, с полным правом претендующих на это звание. Но вот то, что всю сложность и неоднозначность эпохи он в своей судьбе поневоле отразил, бесспорно
Его дед одним из самых первых в Петербурге явился обладателем домашнего телефона, приобрёл автомобиль «Бенц», так что внук с детских лет приобщился к личному транспорту. Его отец, купец первой гильдии, получил образование в Париже, после чего на невском берегу стал высокооплачиваемым бухгалтером и по страстной любви женился на девушке из видного цыганского рода Ильинских. Потом Вера часто, аккомпанируя себе на палисандровой гитаре, пела для маленького сына и дочек: «Люблю я цветы полевые, люблю их от чистой души». И «сама» Анастасия Вяльцева нередко устраивала домашние концерты, а дети всякий раз от неё вдобавок получали огромный пакет с разными лакомствами. И другая эстрадная знаменитость, Юрий Морфесси, порой в этом доме исполнял «Кирпичики», «У камина». Как-то заставил он спеть и Димочку (так Вадима называли дома), а после, посадив мальчика на колени, провозгласил: «Вот растёт моя смена».
Но вскоре за окном разразилась другая музыка – «музыка революции», и Козины потеряли всё. Умер отец, так что Вадим стал кормильцем матери и четырёх сестёр. Раньше, будучи школьником, он уже служил в библиотеке, но теперь образованному юноше найти подходящую работу мешало «чуждое» социальное происхождение. И он вкалывал в порту грузчиком, пилил дрова, а ещё выступал в составе комического хора Чарова. Потом устроился в Народный дом тапёром, сопровождал демонстрацию немых фильмов непрерывной игрой на фортепиано. Когда очередной сеанс заканчивался, зрителей обычно приглашали на «дивертисмент». И однажды, когда Вадим, как всегда, из-за кулис наблюдал за таким концертом, его вместо заболевшего артиста буквально выпихнули на эстраду. Не растерялся, спел модную тогда на слова Демьяна Бедного «Песню о стратостате» – и сразу успех!
Так в «Ленпосредрабисе», или Ленинградском посредническом бюро работников искусств, появился новый «солист-певец русских и цыганских песен». Чаще всего выступал перед киносеансами (такая замечательная традиция сохранялась по всей стране примерно до середины 60-х). Затем стал штатным артистом в концертном бюро Дома политпросвещения, через некоторое время – в Ленгосэстраде. Его уже ждали во всех дворцах культуры, а однажды и в Большом зале Филармонии испытал подлинный триумф, хотя в том концерте участвовали воистину корифеи тогдашней «цыганщины» Тамара Церетели, Изабелла Юрьева, Нина Дулькевич, Наталья ТамарА.
Да, внутреннее чутьё, тонкий музыкальный вкус и советы мамы помогли найти свои песни, свои романсы, до того никому не известные или прозвучавшие когда-то очень скверно и потому забытые. Всего в каждом концерте без всякого микрофона исполнял их не меньше сорока! И, затаив дыхание, люди внимали его голосу: «Не забывайте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз». Или: «Я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой». Или: «Эй, быстрей летите, кони, отгоните прочь тоску».
В 1929-м впервые (потом их будет более двухсот на стихи Ахматовой, Анненского, Гумилёва, Бальмонта, других) сам написал песню: «Бирюзовые, золотые колечки, эх, покатились по лужку, ты ушла, и твои плечики скрылися в ночную мглу». Она была довольно легкомысленной, но мигом стала очень популярной и считалась «цыганской».
В память о звезде немого кино Вере Холодной поначалу взял себе такой же сценический псевдоним, и афиши крупно извещали о концертах «известного исполнителя Вадима Холодного», но эта манерность «известному исполнителю» скоро надоела, и он возвратился к своей настоящей фамилии, которая быстро стала на невском бреге, а потом и во всей стране знаменитой. Добиться этого было совсем не просто, на небосклоне нашей эстрады уже сияли Леонид Утёсов и Клавдия Шульженко, рождался отечественный джаз, вовсю гремела новая советская «массовая» песня, а старинный романс власть считала жанром «чуждым времени» и поэтому «публике не нужным».
Однако сама публика думала иначе, и, когда Козин, перебравшись в Москву, стал гастролировать по всей стране, люди везде, от Балтики до Тихого океана, влюбились в этот голос – тёплый, мягкого тембра, свободно (как у Лемешева) льющийся наверх, но более камерный, какой-то «матовый».
Аккомпанировал ему обычно знаменитый Давид Ашкенази. Оба артиста из противоположных кулис одновременно вырывались на сцену, с двух сторон подбегали к роялю и, не объявляя номера, стремительно начинали то, что свидетелями воспринималось как чудо.
Козинские эмоциональные перепады – удаль, страсть, тоска и нежность – мгновенно захватывали слушателей. Его темперамент взрывался в «Очах чёрных», грустил в «Калитке», заходился от восторга в «Цыганской венгерке», был трагичным в «Нищей». Его звонкий, богатый красками тенор мог быть и мягким, и суровым – певец владел им в совершенстве. И вся страна вслед за ним запела «Люба-Любушка, Любушка-голубушка, сердцу любо Любушку любить»; «Ну улыбнись, родная, ну не сердись, родная, ну поцелуй, родная, меня»; «Брось сердиться, Маша, лучше обними».
Известен анекдотический случай. Однажды, начав петь, Козин вдруг заметил перед собой микрофон. «Что это?!» – закричал он, словно увидел змею, и не продолжил выступление, пока микрофон не убрали. Конечно, критика его «щипала» вовсю за исполнение «такой пошлятины», как «Брось сердиться, Маша», «Осень, прозрачное утро», «Когда простым и нежным взором». А публика это обожала. И у элиты он тоже пользовался успехом, но, боже мой, что эта самая элита для себя выбирала! Например, Вадим Алексеевич вспоминал, как однажды на банкете в Кремле довелось близко наблюдать Сталина, который, притоптывая, гнусаво напевал из его репертуара примитивную частушку: «Ритатухи ходил к Нюхе, жила Нюха в пологу. Нюха девочку родила, больше к Нюхе не пойду».
Небольшое отступление. В 1975 году я оказался гостем старейшего варшавского композитора (ему было за восемьдесят) Ежи Петербурского, который тогда мне был интересен прежде всего как автор ещё довоенного «Синего платочка». Слушал я, как его молодая жена, пани Сильвия, дуэтом с маленьким сыном (когда младенец явился на свет, Утёсов прислал старинному другу телеграмму: «Поздравляю, Юрочка! Я на такое уже не способен»), аккомпанируя себе на фортепиано, пела вот про эту самую «малу небеску хустечку» и другие широко известные творения своего супруга – «Танго Милонга», «Уж никогда», «Ты, моя гитара». Но лишь захотела исполнить танго «Та остатня неделя» («Это последнее воскресенье»), пан Ежи воскликнул: «Ах, як то спевал ваш цудовный Козин!». Поставил на проигрыватель извлечённую из шкафа довоенную грампластинку Апрелевского завода – и там, в доме на Аллее Армии Людовой, полился такой знакомый мне, такой дивный голос: «Утомлённое солнце нежно с морем прощалось».
Когда грянула Великая Отечественная, сольные концерты в лучших залах страны сменил на выступлениями во фронтовых землянках, на аэродромах и палубах боевых кораблей. Старые его песни напоминали воинам о мирной жизни и родном доме, а новые – благословляли на смертный бой.
Например, про двух друзей (один паренёк родом – калужский, другой – костромской), которые дрались «по-геройски, по-русски» в морской пехоте: «В штыки ударяли два друга – и смерть отступала сама… «А на-ка, дай жизни, Калуга!» – «Ходи веселей, Кострома!»…»
Или «Нет, моя Москва не будет взята ими». Или озорная: «Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой. Вдаль дозоры смотрят зорко, мы готовы в бой!»
Или нежный вальс про оказавшийся в фашистском кольце родной город: «Там под вечер тихо плещет невская волна… Ленинград мой, милый брат мой, родина моя». Там, в блокаде, осталась все близкие. На излёте сорок первого негодяи убили старшую сестру – ради январских хлебных карточек, которые она получили на всю семью, и следом от голода погибли младшая сестрёнка и мама. После одного из концертов командующий 1-м Прибалтийским фронтом Баграмян вручил ему орден Красной Звезды.
Выступал перед участниками Тегеранской конференции. Ходили слухи, что Черчилль пригласил туда Марлен Дитрих, Изу Кремер и Мориса Шевалье, а Сталина попросил, чтобы привезли Козина.
И вдруг арест, осуждение на восемь лет лишения свободы. Соловей оказался в клетке.
Есть несколько версий случившегося. Первая, что якобы пострадал за выступление во время гастролей в Хабаровске перед солдатами формировавшегося там польского военного корпуса (по ложному доносу пришили «измену Родине»).
Вторая, что ему припомнили, как на Тегеранской конференции без спросу принял предложение Рузвельта спеть в апартаментах американского президента.
Версия номер три ещё более романтична: Козин, оказывается, отбил у самого Лаврентия Берии лётчицу-героиню Марину Раскову.
Четвёртая версия, героическая: в личной беседе сБерия, когда рядом находился секретарь ЦК Щербаков, Козин дерзко заявил об отказе разучивать и исполнять песни о Сталине («Я же тенор, исполнитель романсов, лирических и цыганских песен, а тут – о Сталине»).
Пятая – четвёртой под стать: не пожелал выехать с концертом на фронт в знак протеста против того, что власти не произвели вовремя эвакуацию из блокадного Ленинграда матери и сестёр артиста.
На самом же деле его трагическую судьбу определила нетрадиционная сексуальная ориентация, которую советская власть, особенно в военное время, очень осуждала. В «столице Колымского края» он оказался под крылом у жены начальника МАГЛАГа генерала Никишова, Александры Гридасовой, которая от гибельного лесоповала узника мигом освободила. Но птица билась в клетке: он пел в эстрадном коллективе НКВД.
В начале сентября 1950-го «за хорошую работу и примерное поведение» был досрочно освобождён, но остался в Магадане: руководил вохровской самодеятельностью, работал в местном музыкально-драматическом Театре имени Горького. Не возвратился в Москву и после смерти Сталина. Он еще сохранял голос, артистическую форму, вовсю сочинял новые романсы, песни на стихи Беранже, Есенина, Симонова и в 1958-м отважился совершить гастрольный набег: сначала вдоль сибирской магистрали, потом в центральные районы страны. И опять всюду – от Владивостока до Сочи – людей завораживал голос, в котором и дым цыганских костров, и гиканье атакующих орд Аттилы, и битва при Калке, и плач Ярославны, и безмерная боль одиночества. После подлинного фурора вернулся в Магадан, где его снова на два года лишили свободы.
Так и жил он там, воспевая в новых своих песнях суровый край, который стал родным: «Над сиреневой сопкою всходит луна, пролетел лебедей караван. Вместе с ними в наш край возвратилась весна, возвратилась весна в Магадан».
А для нас имя Вадима Козина благодаря телевидению вышло из небытия только в середине 80-х. Александр Розенбаум тогда пел: «На серебристой Колыме мы не скучаем по тюрьме, здесь слёзы наши до земли не долетают, на них здесь радуга висит, у дяди Козина спроси, – а дядя Козин в этой жизни понимает».
Почему Вадим Козин остался в Магадане
В 1993-м группа именитых артистов во главе с Кобзоном прибыла туда на его 90-летие. Торжество, по местным масштабам, получилось грандиозным, но сам Вадим Алексеевич его проигнорировал, ворчливо отмахнувшись: «Я уже привык к валенкам, а на юбилей нужно во фраке, который с валенками не сочетается». В общем, новая всероссийская слава вернулась к нему поздно, и 19 декабря 1994 года этого воистину «художника голоса», достигшего сверх преклонных лет, не стало.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!