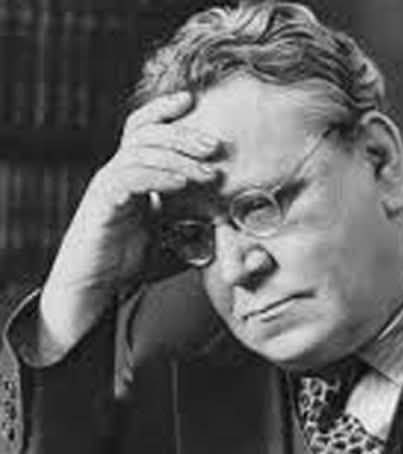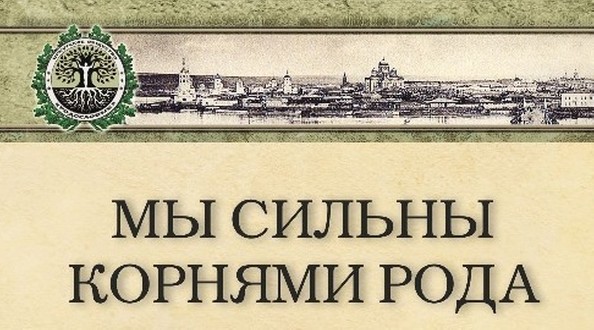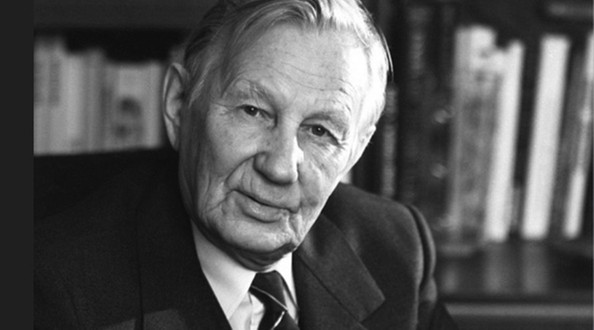Лев Сидоровский: Звонкость Самуила Маршака

23 ноября 2025
3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак. Его вспоминает журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский.
Уже года в три я, как вспоминала мама, восторженно декламировал: «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной!» Мог ли тогда в своём Иркутске предположить, что спустя три десятилетия в Ленинграде поселюсь именно на Бассейной – правда, на другой: та улица, о которой писал поэт, давным-давно носит имя Некрасова.
Да, стихи Маршака (Михалкова, Барто, Чуковского узнал чуть позже) стали в моей жизни, пожалуй, самыми первыми, которые вообще услышал и выучил наизусть. Причём навсегда запомнить их, отличающихся удивительной афористичностью, было совсем не трудно:
Рвать цветы легко и просто // Детям маленького роста»;
«Разевает щука рот, // А не слышно, что поёт»;
«Это он, это он – // Ленинградский почтальон»...
А в 1953-м, став студентом ЛГУ, поражался той точности и образности, с которыми Маршак наш город описал:
Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад – Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.
И в 1970-м – уже как журналист – принимал участие в открытии мемориальной доски на доме № 14/21 по улице Пестеля, под крышей которого многие из моих любимых стихов Самуил Яковлевич сочинил. А «живьём» мельком увидел его лишь однажды – в ялтинском Доме творчества.
***
Складывать поэтические строки он, по собственному признанию, начал еще до того, как научился писать. Может, это пошло от бабушки, которая любила говорить в рифму. Но и отец, который варил мыло на частных заводиках, привил своим шестерым детям вкус к чтению. Не случайно же, кроме Самуила, младший Илья, который под псевдонимом «М. Ильин» работал в научно-популярном жанре, тоже стал классиком детской литературы, и сестра Лия под псевдонимом «Елена Ильина» выпустила много хороших книг (особенно запомнилась мне документальная повесть «Четвёртая высота» – о погибшей на только что закончившейся войне московской девочке Гуле Королёвой).
Что же касается героя моего повествования, то он всё детство постоянно что-то сочинял: игры, пьесы, рассказы. К тому же «редактировал» домашние и школьные журналы. Родился в Воронеже, однако семья много кочевала: отец искал работу.
Наконец обосновались в маленьком Острогожске, где одиннадцатилетний гимназист вдруг открыл в себе переводческий дар: по заданию учителя переложил на русский оду Горация.
А когда ему было четырнадцать, случилось чудо: из захолустья семейство перебралось в блистательный Санкт-Петербург, где талант и счастливый случай привели юного Маршака к Владимиру Стасову – знаменитому исследователю культуры и художественному критику. И здесь «маленький мальчишка в слишком коротких панталонах» читал свои стихи не только «седовласому старику-богатырю», но и Репину, Горькому, Шаляпину.
Успех был оглушительный. Стасов открыл мальчику другой мир, в котором помог обосноваться: сына еврея из «черты оседлости» определил в гимназию. А Горький, узнав, что у незаурядного юнца слабые лёгкие, поселил Маршака в Ялте и вместе с Шаляпиным оплачивал его там учёбу. Но когда в 1906-м Владимир Васильевич скончался (а Алексей Максимович в ту пору, оставив Крым, находился за границей), их подопечному стало трудно: гимназии не окончил, в университет поступить не мог – вот и зарабатывал на жизнь уроками и небольшими публикациями в разных газетах и журналах.
В 1911-м отправился на Ближний Восток, откуда привёз кучу впечатлений, стихи и словно сошедшую с полотен художников эпохи Возрождения красавицу-жену, Софью Мильвидскую, с которой познакомился на корабле. Скоро вместе с ней оказался под небом Лондона, где в университете, на факультете искусств, изучал английскую поэзию – «с мешком за плечами и палкой в руках». Здесь – после появления в семье первенца и знакомства с ребятами из «Школы простой жизни», которых встретил в Уэльсе, – ощутил тягу к детской книге. Путь к ней оказался долгим и извилистым. Вернувшись в Россию, участвовал в организации помощи малолетним сиротам и беженцам – жертвам Первой мировой.
А летом 1917-го в Екатеринодаре создал «Детский городок» – комплекс детских учреждений со школой, библиотекой, мастерскими и одним из первых в стране Театром юного зрителя, для которого вместе с поэтессой Елизаветой Васильевой написал пьесы-сказки: «Кошкин дом» и «Горя бояться – счастья не видать».
Потом возвратился в Петроград, где развернулись его главные таланты: сначала в ТЮЗе, затем – в Показательной библиотеке Пединститута дошкольного воспитания, которую благодаря созданному Маршаком литкружку позже назовут «колыбелью детской литературы», а также в детских журналах и детской редакции Госиздата. Там вышли его первые книжки: «Детки в клетке», «Дом, который построил Джек», «Пожар», «Сказка о глупом мышонке».
С того 1923-го столько лет минуло, а строки из этих и последовавших следом сборников («Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня», «Багаж», «Пудель», «Почта», «Вот какой рассеянный») малыши обожают по сей день:
«Читатель мой особенного рода: // Умеет он под стол ходить пешком…»
В чём же секрет очарования его поэзии? В том, наверное, что, с одной стороны, в ней жанровое разнообразие (маленькая стихотворная новелла, баллада, загадка, сценка, песенка, сказка и присказка, считалка), с другой – удивительная лёгкость, органическое изящество, виртуозная простота стиха, определённость композиции, чёткость музыкального ритма, смысловая насыщенность текста – мудрого для взрослых и понятного детям.
***
Но вернусь в середину 20-х. Сначала Маршак редактировал детский журнал «Воробей», затем – «Новый Робинзон», в который привлёк «бывалых людей»: Бориса Житкова (ах, как интересна была мне, мальчишке, его книга «Что я видел»!), Виталия Бианки, Евгения Чарушина, Яна Ларри. Потом, возглавляя детский отдел Госиздата, ввёл в литературу и других, не менее ярких: Леонида Пантелеева, Евгения Шварца, Даниила Хармса, Григория Белых, Александра Введенского, Николая Олейникова. Позже все они оказались в уникальном «Ежемесячном журнале», который сокращённо именовался – «Ёж», где Маршак был неофициальным «властителем» (главным консультантом), а следом, в добавок к «Ежу», появился «Чиж» («Чрезвычайно интересный журнал»).
Вспоминаю своё детство. К счастью, у нас дома в предвоенные годы каким-то образом оказались несколько потрёпанных номеров и «Ежа», и «Чижа»: Боже, какими они были озорными, красочными, и как я, ещё дошкольник, их обожал!
Ну а спустя три десятилетия в Ленинграде пришёл к популярной детской писательнице Нине Владимировне Гернет, которая когда-то в «Чиже» заведовала редакцией. И услышал интереснейший рассказ про ту радостную атмосферу творчества, что царила у них, на пятом этаже Дома книги («всё сотрясалось от хохота»), где располагалась эта «академия Маршака».
Увы, в «год великого перелома» против поэтов-«обэриутов», работающих в обоих изданиях, начались гонения, позже, в «год большого террора», когда «Ёж» уже был закрыт, вслед за Олейниковым арестовали ещё восемь сотрудников «Чижа», затем изгнали других нежелательных, в том числе и мою собеседницу. Маршак тоже был близок к аресту. На собрании в Союзе писателей ему устроили судилище. Однако тех, кому Самуил Яковлевич когда-то дал путевку в «большую литературу для маленьких», учитель не предал. И был вынужден покинуть невский берег, навсегда оставив любимую редакционную работу, которой отдал много сил, таланта и души.
***
Когда перебрался в Москву, ему уже стукнуло полвека. Продолжал сочинять стихи для малышей и переводить на русский английскую поэзию. Причём в «детских» произведениях, искусно, остроумно, даже весело расширяя границы мира юных читателей, не боялся затрагивать любые проблемы: и производственные
«Человек сказал Днепру: // "Я стеной тебя запру. // Чтобы, падая с вершины, // Побеждённая вода // Быстро двигала машины // И толкала поезда..."»);
и мировоззренческие («Многие парни плечисты и крепки, // Многие носят футболки и кепки, // Много в столице таких же значков – // К славному подвигу каждый готов...»);
и морально-психологические («Ежели вы вежливы // В душе, а не для виду, // В троллейбус вы поможете // Взобраться инвалиду...»);
и даже политические («Мистер Твистер, // Бывший министр, // Мистер Твистер, // Делец и банкир, // Владелец заводов, // Газет, пароходов, // Решил на досуге // Объехать мир...»).
***
Знаменитые три художника, которых мир знает под коллективным псевдонимом «Кукрыниксы», однажды, в 1966-м, в своей мастерской поведали мне, как на второй день войны к ним пришёл Маршак: «Давайте объединим ваш рисунок с моим стихом!» И потом в совместном труде прежде всего искали лаконизма и особой выразительности.
Например, с десяток вариантов сочинил Самуил Яковлевич, пока не получилось такое: «Днём фашист сказал крестьянам: // "Шапку с головы долой!" // Ночью отдал партизанам // Каску вместе с головой».
А Кукрыниксы это великолепно проиллюстрировали. Или – текст для очень популярного тогда их плаката: «Бьёмся мы здорово, // Колем отчаянно – // Внуки Суворова, // Дети Чапаева». Или – такие строки под карикатурой на... упаковке с табаком: «Бойцу махорка дорога, // Кури и выкури врага!» Но лично мне особенно с той поры запомнился плакат, приуроченный к кампании сбора тёплых вещей для фронта, который отличался щемящим сердце лиризмом: «Ты каждый раз, ложась в постель, // Смотри во тьму окна // И помни, что метёт метель // И что идёт война».
***
Сразу после Победы в семье Маршака произошла трагедия: скончался от туберкулёза его младший сын, который прожил на свете всего двадцать один год. Но с трудом одолевший этот страшный удар отец всё равно продолжал творить – и для детей, и для взрослых. И снова читатель любого возраста в его поэзии ощущал безупречность, смысловую ясность и отчётливость, строгий отбор на слух и вес каждого слова, навык «забивания гвоздя по самую шляпку».
Так, без преувеличения, эпоху в отечественной словесности составили переводы ста пятидесяти четырёх сонетов Шекспира, среди которых – вот и этот:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье...
И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
И Бёрнса сделал русским (оставив его шотландцам). И Блейка, Шелли, Китса, Стивенсона, Киплинга, Гейне, Петёфи, Юлиана Тувима, Джанни Родари и ещё многих-многих других поэтов «научил говорить по-русски».
Например, мы часто даже не вспоминаем имени переводчика, декламируя щемящую историю побега Щипцов Для Орехов и Щипцов Для Конфет (из Эдварда Лира) или умопомрачительную «Балладу о королевском бутерброде» (из Александра Милна). И когда туристы в лесу у костра поют: «Ты меня оставил, Джемми, // Ты меня оставил, // Навсегда оставил Джемми, // Навсегда оставил...» – они чаще всего не помнят ни имени Бёрнса, ни имени Маршака, ни имени композитора – тогда ещё совсем юного Александра Градского.
Причём своих любимцев поэт перелагал не дословно, а так, как чувствовал. Его упрекали: «Почему вы написали "Бревно бревном останется"? У Бёрнса такого нет!»
Но как уныл был дословный перевод, и как упруги маршаковские строки, которые, общаясь с иными чиновниками, я непременно вспоминаю: «Вот этот шут – природный лорд, // Ему должны мы кланяться, // Но пусть он чопорен и горд, // Бревно бревном останется».
Да, он умел переводить, как сказал Чуковский, «красоту красотой». И ещё вот такой отзыв сверх требовательного Корнея Ивановича об искусстве Самуила Яковлевича: «Мастерство такое, что не видать мастерства».
Дабы убедиться в этом, перечитайте ещё раз ну, к примеру, уморительное стихотворение про поросят: «И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", – визжи, не стесняясь: "И-и!"»
Или, наоборот, – философское: «Дождись, поэт, душевного затишья, // Чтобы дыханье бури передать, // Чтобы легло одно четверостишье // В твою давно раскрытую тетрадь».
Ещё непременно хочу здесь процитировать (причём на этот раз уже не ради краткости «в подбор», а, как и положено, «столбиком») такие его «взрослые» строки:
Ведёрко, полное росы,
Я из лесу принёс,
Где ветви в ранние часы
Роняли капли слёз.
Ведёрко слёз лесных набрать
Не пожалел я сил.
Так и стихов моих тетрадь
По строчке я копил.
Общепризнанный классик отечественной литературы двадцатого века, «Маршак Советского Союза», он был удостоен самых высоких наград (кроме Ленинской премии, четыре Сталинские), но никогда не почивал на лаврах, до конца дней оставаясь великим тружеником.
Вот и в больнице всякий раз, едва ощутив после очередной пневмонии первые признаки улучшения, сразу хватался за перо, а в телефонную трубку кричал начинающему поэту: «Голубчик, верьте в вашу звонкость!» Может быть, именно вот эту звонкость он нам завещал? И очень греет мою душу венок из вереска, который в июле 1964-го на его похороны прислали с родины Бёрнса.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!