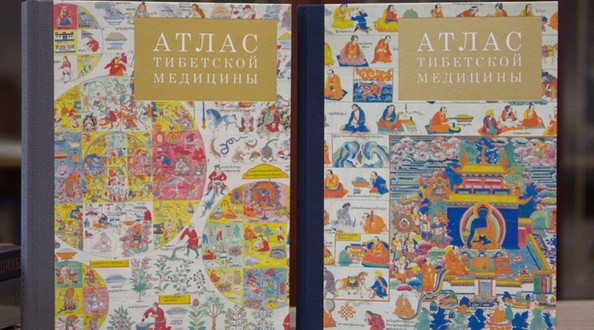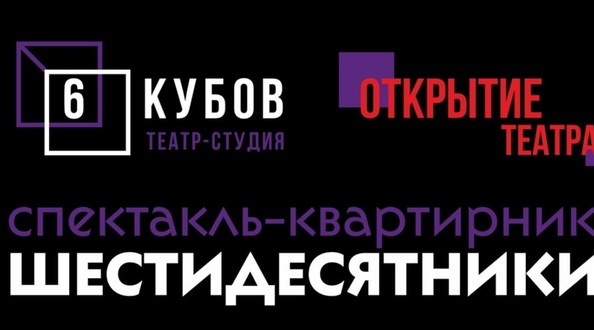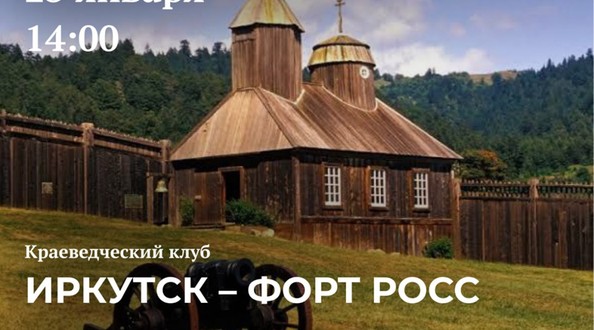Лев Сидоровский: В день рождения Иосифа Уткина вспоминаем "...Только ты да родная земля!"

29 мая 2020
Лев Сидоровский вспоминает свое далекое отрочество, которое прошло в Сибири, на берегах Ангары, время, когда "отчетливо понимаю, что были мы, иркутские мальчишки, крепко дружившие с книгой, большими патриотами".
Бродя по родному городу, знали, что здесь комиссар Пятой армии Владимир Зазубрин написал "первый советский роман" под названием "Два мира" – именно так сие творение охарактеризовал сам Ленин, и это нам льстило; и что другой комиссар той же армии, Ярослав Гашек, задумывал здесь своего Швейка.
Многие из нас были знакомы с авторами "Базы курносых" – коллективной ребячьей книги тридцатых годов, которая очень нравилась Горькому. Где-то невдалеке от Иркутска еще только подрастали наши ровесники, будущие «классики», Валя Распутин и Саня Вампилов, а пока мы гордились тем, что наш город дал поэзии Джека Алтаузена и Иосифа Уткина...
Стихи своего земляка Уткина, ставшего всесоюзной знаменитостью, я декламировал на школьных вечерах. Особенно – вот это:
Мальчишку шлёпнули в Иркутске,
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы у него...
Тот мальчишка был комсомольцем, над которым...
…неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он всё время улыбался:
Мол, ничего не понимэ...
Ему японская "микада"
Грозит, кричит: "Признайся сам!.."
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам...
В общем, замечательный был мальчишка...
...И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!
О судьбе самого поэта я тогда уже знал кое-что. Ну а стал старше – выведал побольше...
Отец – как "лицо иудейского вероисповедания" – строил Китайско-Восточную железную дорогу, ибо, по царским законам, работать на местных, внутрироссийских транспортных средствах, евреям запрещалось. И сын, рожденный там, на дальневосточной окраинной станции Хинган, с ранней поры слышал рассказы о покинутой родине, варился в сибирском межнациональном котле, воспламенялся идеей всемирного братства...
Скоро перебрались в Иркутск, где Иосиф окончил трехгодичную школу, однако из училища был исключен – «за плохое поведение и вольномыслие по совместительству». "Плохое поведение" – потому что пропускал занятия: отец семью оставил, и сыну пришлось стать кормильцем. Был "мальчиком" на кожевенном заводе, маркером в билльярдной местного "Гранд-Отеля", продавцом газет... После революции вступил в рабочую дружину, участвовал в антиколчаковском восстании, комсомольцем-добровольцем ушел на Дальневосточный фронт. С той поры сохранился документ, подписанный военным комиссаром:
"Справка сия дана тов. Уткину Иосифу в том, что он, находясь политическим руководителем сводной роты вверенного мне батальона, вполне оправдывал возлагаемые на него работы, поручения, а также в равной степени соответствовал назначению политического работника как отношением к делу, так и поведением".
А вот свидетельство знаменитого комсомольского лидера двадцатых годов Александра Мильчакова: "Уткин пришел в революцию юношей. Видел и "тифозные перроны", и "у проруби багровый лед", и партизанских матерей, запоротых "шомполами в штабе офицерском". Потому у него так взволнованно и прозвучало: "В брони, в крови, в заплатах – вперёд, вперёд, вперёд! – страдал и шел Двадцатый, неповторимый год".
А в 1922-м губернская газета "Власть труда" опубликовала его стихи:
Нас годы научили мудро
Смотреть в поток до глубины,
И в наших юношеских кудрях
До срока – снежность седины.
Мы выросли, но жар не тает,
Бунтарский жар в нас не ослаб!
Мы выросли, как вырастает
Идущий к пристани корабль.
Спустя два года вышел первый номер "Комсомолии" – местной "молодёжки", для создания и дальнейшего возмужания которой он приложил немало сил. Ну а его стихи, постоянно появляющиеся на тамошних страницах, имели такой резонанс, что партийный и комсомольский губкомы решили отправить Уткина на учебу в столицу. И в этом самом поезде "Иркутск – Москва", который долго тащился почти через всю страну, в его голове возникла, без преувеличения, гениальная поэма, к тому ж – с необычным названием: "Повесть о рыжем Мотеле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох".
В те, увы, очень короткие, годы государственного антисемитизма у нас, слава богу, не существовало, что тоже поспособствовало мгновенно вспыхнувшей всесоюзной славе поэта и его творения. О чем "Повесть"? О том, что революция, ворвавшаяся в застойный мирок еврейского местечка, заведенную там жизнь перевернула вверх дном...
Сколько домов пройдено,
Сколько пройдено стран.
Каждый дом – своя родина,
Свой океан.
И под каждой маленькой крышей,
Как она ни слаба, –
Свое счастье,
Свои мыши,
Своя судьба...
Перед нами – жизнь, где необъятно широкое слово "родина" как будто разорвано на мелкие кусочки, на "моё" и "твоё", где "океан" стал чуть ли не чем-то вроде личной собственности; каждому отведено свое место: один мечтает о курице, а другой курицу ест... Рыжий портняжка Мотэле раньше беспрекословно исполнял все установления этого вековечного мирка, не мечтая о большем, чем имел:
– Ну, что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет! –
И он ставил заплату
И на брюки
И на жилет...
Так было бы и дальше, но случилась революция – и вот уже господин полицмейстер "сел в тюрьму", жена инспектора "весит уже не семь, а пять". И сколько тут иронии, сколько мягкого, доброго юмора:
И дни затараторили,
Как торговка Мэд.
И евреи спорили:
"Да" или "нет"?
Так открыли многое
Мудрые слова.
Стала синагогою
Любая голова...
И сколько же в этой поэме чистой, прозрачной лирики, особенно – в последних главах, когда рамки повествования раздвигаются от захолустного местечка до всей России:
Милая, светлая родина,
Свободная родина.
Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено!!!
Впрочем, насчет "свободной родины" поэт, как и многие его современники, увы, очень ошибался...
Горький из Сорренто в 1928-м сообщал: "Когда я прочел "Мотэле", подумал – ну, человек, так написавший, или сделает очень многое, или ничего. Теперь я вижу, что это настоящее и надолго". В другой депеше оттуда он назвал Иосифа Уткина "особенно талантливым". А что сам Уткин? Снова и снова возникала в его стихах Гражданская война, иногда чуть лакированная:
Красивые, во всём красивом,
Они несли свои тела,
И, дыбя пенистые гривы,
Кусали кони удила...
Снова и снова говорил он о любви, иногда – совсем не счастливой:
...И, усталые, полуживые,
Зубы стиснувши и губы сжав,
Мы с тобой стоим, как часовые
Двух насторожившихся держав.
На Великую Отечественную ушел добровольцем. В июле сорок первого писал с передовой:
Одной борьбе, единой цели
Подчинены мы до конца.
И мы на фронт и тыл не делим
Свои советские сердца.
Профессий мирных больше нету!
Винтовкой, молотом, пером,
Как дело общее, победу
На плечи общие берём...
В сентябре под Ельней осколком мины ему оторвало на правой руке четыре пальца. Даже в полевом госпитале диктовал стихи. Оказавшись на излечении в тылу, рвался "на линию огня". Наконец летом сорок второго – снова на фронте:
Я видел девочку убитую,
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала...
Эти стихи, да и многие другие, рожденные на войне, стали песнями. Илья Сельвинский собрату по перу написал: "Дорогой Иосиф Павлович! Вчера на передовой в одном из блиндажей я услышал гармонь и песню на Ваши слова: "Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, в пылающий адрес войны..." Я вошел в этот блиндаж и долго слушал. Песня эта очень нравится бойцам, и музыку они подобрали сами... Пишу Вам об этом, так как знаю по себе, как поэту приятно знать, что стихи твои не просто оттиснуты на бумаге, а пошли в жизнь!"
За боевые заслуги военкора Уткина наградили орденом Красной Звезды, а командование 3-го Украинского даже подарило ему трофейную легковушку. Однако поездить не успел. Еще в сорок втором написал с фронта любимой:
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это – другая,
Это значит... сырая земля.
И вот в 1944-м, 13 ноября, – авиакатастрофа.
Голосок на левом фланге
Оборвётся, смолкнет вдруг...
Будто лермонтовский ангел
Душу выронит из рук...
Его нашли под обломками. Он был мертв и в руке сжимал томик стихотворений Лермонтова...
В Иркутске есть улица Иосифа Уткина. И юношеская библиотека носит его имя. А у нас, в Питере, поэт не известен почти никому...
Как-то, повстречавшись с другим (ныне, увы, уже безвременно покинувшим этот мир) очень хорошим поэтом, моим давним, еще с университетских времен другом и вообще большущим умницей Ильей Фоняковым, поинтересовался, кем лично для него является Уткин?
Вот что сказал Илья: "Среди наследства, полученного мною от мамы, были несколько десятков толстых тетрадей, в которые она, начиная с отрочества и до конца своих дней, выписывала полюбившиеся ей стихи, а иногда и довольно пространные куски прозы. Преобладала классика – отечественная и зарубежная. Советские авторы допускались лишь изредка, со строгим отбором. Именно по одной из таких тетрадей мама прочитала мне однажды:
"Вот девушку любим и нежим,
А станет жена или мать –
Мы будем все реже и реже
Любимой ее называть..."
Сколько мне было тогда лет: десять, двенадцать? Никакого собственного опыта на сей счет, естественно, я не имел. Но сердце почему-то откликнулось этим грустным строчкам: "А ведь правда!"
Потому что была в них какая-то особая доверительность. И убедительность. Было ли тогда названо имя поэта: Иосиф Уткин? Не помню. И когда в другой раз мама, в свое время жившая с мужем-геологом в Сибири (там, в городе ленских золотоискателей Бодайбо мне довелось родиться), пропела мне сибирскую песню "Я люблю пережитые были...", – я не знал, что это стихотворение Уткина "Рассказ солдата". Лишь много позднее, уже студентом, нашел и то, и другое в сборниках поэта. Переиздававшегося, кстати говоря, скупо и редко.
Может быть, из-за того, что не была безоблачно оптимистична его лирика, слишком отчетливо звучали в ней нотки грусти. Слишком отчетливо, слишком часто для "комсомольского поэта". Да и стихи о гражданской войне, если вчитаться в них внимательно, не всегда вписывались в общепринятую схему. Его талант не назовешь огромным или мощным. Его сила в другом – в искренности и доверительности. Не боевую трубу, а "интимную гитару" у походного костра, ее "серебряную косу волнующихся струн" воспел он в своем известном стихотворении, в чем-то став предшественником поэтов-бардов последующих десятилетий...
А стихотворение "Если я не вернусь, дорогая...", о котором речь шла выше, заканчивалось так:
...И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!
Всего полгода Иосиф Уткин не дожил до Победы. Я слышал, что в мае сорок пятого какой-то солдат на стене гитлеровского рейхстага начертал и его строки...
Автор: Лев Сидоровский, журналист, Иркутск - Санкт-Петербург
На снимке: Иосиф Уткин.
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!