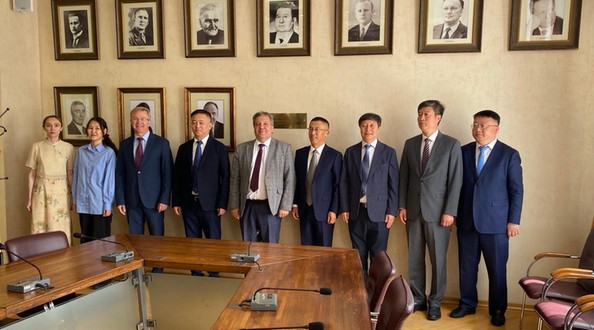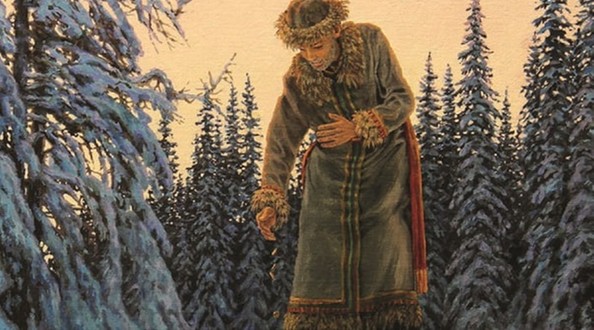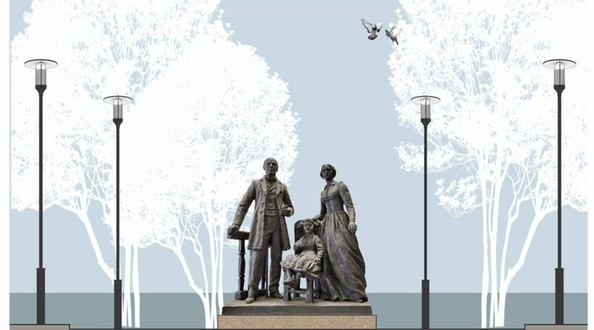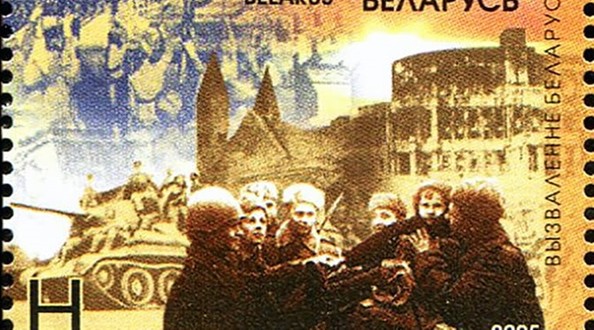Лев Сидоровский: Боль и вера сатирика, или Аркадий Райкин глазами сына

08 июля 2025
Уроженец Иркутска, журналист Лев Сидоровский вспоминает свои встречи с Аркадием и Константином Райкиными.
Сцена и мода, или диалог Аркадия Райкина и Георгия Товстоногова
Когда в 1981-м имя Аркадия Райкина первым секретарём Ленинградского обкома Романовым в городе на Неве было запрещено, и я не мог в октябре на страницах «Смены» поздравить великого артиста с его 70-летием, сделал разговор с Константином Райкиным об отце. Под рубрикой: «Райкин – глазами сына». Но редактор Фёдорова, лишь узрев фамилию героя повествования, мигом швырнула материал в мусорную корзину. Тогда я его опубликовал в журнале «Советская эстрада и цирк».
– Константин Аркадьевич, дорогой Костя, окажусь ли я прав, высказав предположение, что твой путь «в артисты» был предопределён заранее, что профессия тебе, так сказать, перешла в «наследство» от родителей?
– Нет, совсем не так. Родители вовсе не стремились к тому, чтобы я непременно был актёром, более того, в Щукинское училище поступил от них тайком. Я вообще убеждён, что артистом стать «по наследству» нельзя, и впрямую передать что-то сыну отец не в состоянии – что можно «передать», если речь идёт об искусстве? Одна зрительница как-то мне написала: «Вам легко быть артистом, ведь у вас такой папа». Странная мысль! Допускаю, что кто-нибудь «по знакомству» может выйти на сцену, но быть там «по знакомству» больше пяти минут и тем более иметь успех – этого ещё не удавалось никому. Мой отец всегда для меня остаётся примером высокого служения искусству, жертвенного отношения к делу, и это я стараюсь взять от него в наследство.
– А его исключительно высокий рабочий ритм, умение постоянно трудиться?
– Да, работа для отца – это самый естественный способ существования. Мне даже кажется, что за три часа спектакля он молодеет. Часто, бывало, звонит мне в Москву: «Приезжай, хочу показать новую миниатюру».
Приезжаю утром и сразу понимаю: чувствует себя неважно. Весь день мы вместе, и это ощущение всё усиливается: отец ходит вяло, говорит тихо. Вечером в театре я вижу, как он медленно гримируется, и невольно приходит на ум: «Зрителю сегодня не повезло...» С таким ощущением занимаю место в зале. Третий звонок, увертюра – и вот он на сцене: стремительный, азартный, с сияющими глазами!
Метаморфоза, происшедшая за пять минут, потрясает. Я опять забыл, что работа для отца – наслаждение, высшее состояние души. И на репетициях отец тоже испытывает подобное чувство, хотя порой они не просто трудны – мучительны.
Или представь себе, каково выучить текст всего спектакля на иностранном языке, которого совсем не знаешь! А он выучивал, причём на нескольких языках! Во имя чего же такое самоистязание? Во имя того, чтобы быть понятым зрителем.
Как-то, наблюдая Аркадия Райкина во время репетиции, один журналист не удержался от восклицания: «Как вы можете столько работать!» Отец удивился: «Разве рыбу спрашивают, как она может столько плавать?» В кино есть такая профессия – каскадёр, требующая от человека прежде всего мужества. Мужество для таких людей – дело будничное.
Не случайно подумал сейчас об этом: мне вспомнилось, как однажды в Москве с отцом случился серьёзный сердечный приступ. Вызвали неотложку, сделали укол, повезли в больницу. Путь лежал через Арбат. И вот, когда «скорая помощь» поравнялась со зданием Театра имени Вахтангова, отец вдруг попросил остановиться на полчаса, потому что в театре юбилейный вечер, и там ждут его выступления. Мужество? Для него это – норма.
– Вероятно, ты не раз присутствовал при рождении знаменитых райкинских сцен, миниатюр, монологов! Или, может, Аркадий Исаакович не любит посвящать домашних в свою творческую «кухню»?
– Волей или неволей домашние в эту «кухню», конечно, посвящены, но вот раскрывать публично свою творческую лабораторию, делать её предметом всеобщего достояния – это отец считает недопустимым, потому что люди должны знать результат труда артиста, а не то, каким путём он к этому результату подходит. Помните, у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» И в театре так же...
Притом, у отца, как правило, работа над спектаклем не прекращается и после премьеры. Вот, например, знаменитый монолог «В греческом зале...» Поначалу он казался мне очень средним, невзрачным, но пришёл на спектакль через месяц и поразился: какие новые краски открыл здесь исполнитель!
– Да, этот монолог многие знают наизусть, как, пожалуй, и другие «знаменитые» номера из репертуара артиста. Кстати, а что тебе в этом репертуаре особенно дорого?
– Прежде всего, мне очень дорого то, что Аркадий Райкин – это артист, который всегда в развитии, который от программы к программе ощутимо меняется. Если вспомнить его программы, скажем, за последние десять лет, то становится ясным, что они «посерьёзнели», что всё меньше в них элементов развлекательности, а все больше публицистики.
Особенно высок заряд гражданственности в последнем спектакле «Мир дому твоему». Но мне всё-таки грустно, что лирических ноток здесь мало, а я очень люблю на сцене Райкина-лирика: помнишь, как исполнял он, например, сценку «Участковый врач»? Или миниатюру «История одной любви» в спектакле «Времена года»? Я люблю его старые песенки «Пожарника», «Холостяка», «Это было летом, летом...» и многие другие, хотя слова там порой и наивны, но дело вовсе не в словах, а в том, с какой душевной затратой, с каким артистизмом и обаянием он их исполнял...
– Десять лет ты отдал «Современнику», и вполне понятно, что отец твои работы на сцене видел. Как считаешь, влиял ли он при этом на тебя как режиссёр?
– Пожалуй, да, хотя я и сопротивлялся. Дело в том, что такое понятие, как актёрская «характерность», в «Современнике» раньше не очень почиталось: там принято было любую роль как бы «подминать» под свою органику. В своё время этот приём возвращал в театр правду, но постепенно он приедался. Вот и я играл – «от себя», не меняясь.
Естественно, что такой острохарактерный актёр, как Аркадий Райкин, принять полностью подобную манеру не мог. Например, узнав, что я репетирую Епиходова в «Вишневом саде», он тут же, прямо за столом, стал показывать, как представляет себе рисунок роли. Было ужасно интересно, гомерически смешно, но всё-таки казалось несколько «традиционным» и совсем не совпадало с рисунком всего спектакля. Зато потом, играя Епиходова, я всякий раз мучился – расплачивался за то, что решил, будто «оригинальнее» и «новее» отца. Да, спорили мы немало, в чём-то он меня убедил: теперь мне тоже, как и ему, прежде всего, интересны именно яркие проявления театральности – в этом кроется и одна из причин моего перехода в Театр миниатюр.

– Смотря на твои танцы, невольно вспоминаю, как танцевал Райкин-старший.
– Пример отца тут безусловный: у него же замечательная и притом неожиданная пластика, высокая культура жеста.
– Есть ли у вас «общие» книги, спектакли, фильмы?
– Из ленинградских театров отец чаще других бывал со мной в Большом драматическом, и когда я говорю, что БДТ – это лучший театр в стране, то он непременно поправляет: «Не в стране, а в Европе». Оба очень любим нашего замечательного чтеца Дмитрия Николаевича Журавлёва, высоко ценим искусство Марселя Марсо, книги Чингиза Айтматова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, стихи Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной. Но отнюдь не стремимся всякий раз приходить к какому-то абсолютно единому мнению. Отец всегда был тактичен по отношению к моим убеждениям, никогда не «давил», пытаясь силой навязать свои взгляды.
– Кто-нибудь, вероятно, считает, что артист-сатирик и в жизни, дома, такой же, как на сцене: полон улыбок, энергии, сарказма.
– Увы, частое заблуждение. Нет, Аркадий Райкин в жизни «тихий». Предпочитает в основном слушать других, наблюдать, запоминать. Здесь он накапливает впечатления, а на сцене – отдаёт.
– Какое качество в Райкине-отце и Райкине-человеке представляется тебе самым главным?
– Доброта. С детства запомнил, какие у него добрые руки, а руки ведь вообще говорят о человеке очень много. Да, лицом обмануть легче, чем руками. И искусство у сатирика Райкина тоже не злопыхательное, а доброе. Доброе – по большому счёту: оно может быть острым, даже – беспощадным, но это беспощадность к порокам, к болезням.
В общем, доброта сатирика сродни доброте врача, который ради спасения человека порой должен взять в руки скальпель..
И зритель уходит со спектаклей Аркадия Райкина вовсе не подавленным, а наоборот, просветлённым, потому что в искусстве этого артиста – не только боль за нас, но и прежде всего – вера. Вера в человека!
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!