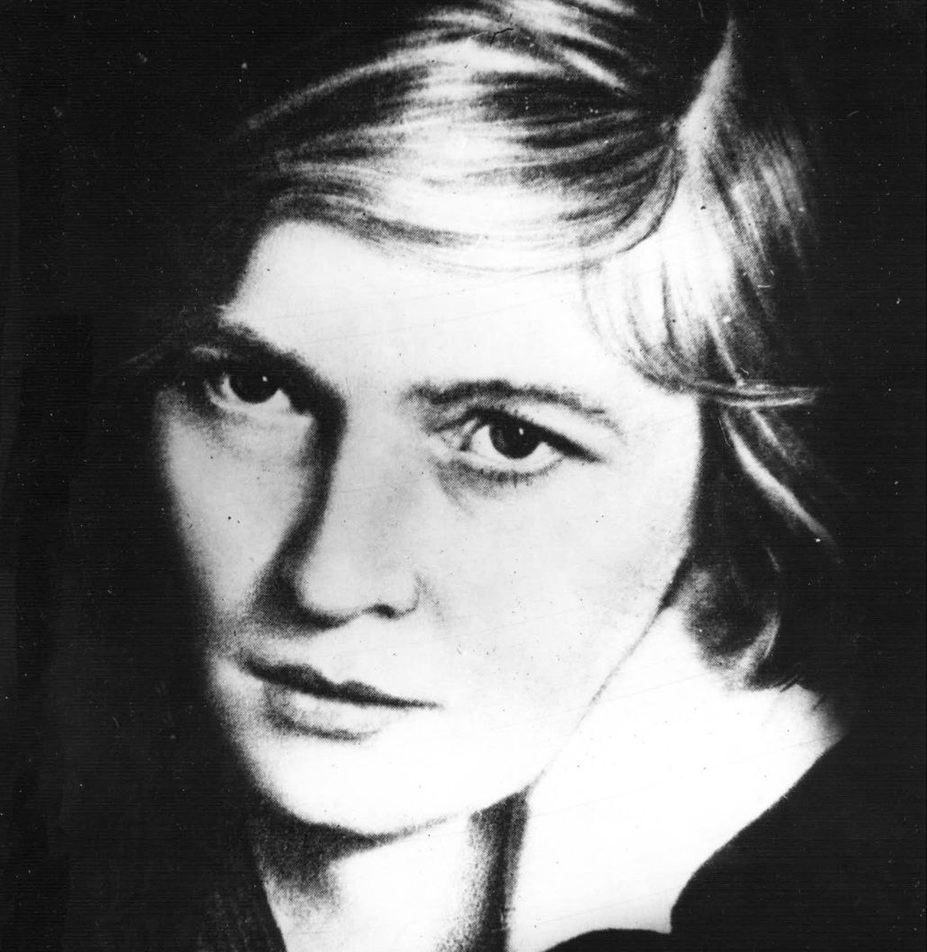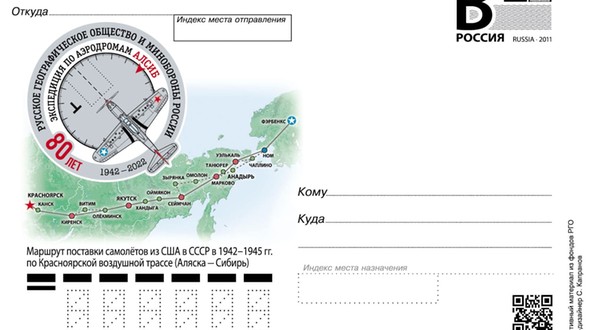Лев Сидоровский: «Ни крупицы не прощу врагам…», или 13 ноября 1975 года скончалась Ольга Берггольц

16 ноября 2025
Об известном поэте вспоминает журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский.
Летом шестьдесят седьмого я получил от Бориса Полевого (нештатно сотрудничал тогда с журналом «Юность») неожиданное задание: взять у Ольги Берггольц интервью по поводу Аллы Демидовой, которая сыграла самую поэтессу в фильме «Дневные звёзды», а также выпросить для журнала новую подборку стихов.
Увы, выполнить сие поручение оказалось весьма не просто, потому что больше месяца Ольга Фёдоровна лежала в «Свердловке» (прежней, на Староруссской), и неоднократное моё там, в больничной палате, появление ничего, кроме раздражения, у Берггольц не вызывало: «В этих стенах – никаких разговоров! Вот выберусь домой, на Чёрную речку, там и посудачим».
Наконец из больницы выписалась, но проблема всё равно оставалась неразрешимой, ибо в ответ на все свои звонки (и сегодня, помню номер её телефона: 33-63-02) получал на том конце провода от Татьяны Михайловны, помогавшей Ольге Фёдоровне по хозяйству, неизменный ответ шёпотом: «Она неконтактна».
Разъяснять мне, что значит «неконтактна», не требовалось, но не выполнить задания Полевого не мог.
Поэтому однажды ранним утром, без всякого спроса, заявился на набережную Чёрной речки, в дом № 20, в квартиру № 57.
***
Войдя в её комнату, прежде всего, увидел снимок под стеклом: красивая, золотоволосая, с неповторимой льняной прядью, падающей на высокий и чистый лоб – такой её запечатлел фотограф в ту пору, когда (ровно за месяц до войны, за четыре до блокады!), уже пройдя через многие круги ада, она написала:
Нет, не из книжек наших скудных –
подобья нищенской сумы,
узнаете о том, как трудно,
как невозможно жили мы.
Как мы любили горько, грубо,
как обманулись мы, любя,
как на допросах, стиснув зубы,
мы отрекались от себя...
Я смотрел на фото и на женщину, которая лежала на своей «письменной кровати» (называла кровать «письменной», потому что там, под одеялом, на сбившейся простыне, чего только не было: черновики, листы, переписанные набело, книги, словари...): Боже, как изменилась за четверть века! Где золото волос?! И как предательски дрожат тонкие нервные пальцы... У её изголовья щурился с портрета Шостакович, а сбоку располагались Достоевский и Ахматова. Ещё были видны ей с подушки юный Пушкин – в раме над старинным бюро – и отец, Фёдор Христофорович, строго взиравший с фотографии на так рано постаревшую дочь.
А потом (целый день!) слушал я, затаив дыхание, её монолог – о времени, о жизни, о себе, который то и дело прерывался исступленным стоном:
Не может быть, что жили мы напрасно!
Вот, обернувшись к юности, кричу:
– Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна!
Ты горнему подобная лучу!..
Она вспоминала многое, и прежде всего страну своего детства, Невскую заставу, которая «учила ходить и говорить, молиться Богу и не верить в него». Вспоминала отца, полевого хирурга Красной Армии. Вспоминала 117-ю единую трудовую школу: тогда её заветной мечтой была кепка и кожаная тужурка – как все сверстники, думала о последних и решающих схватках с мировой буржуазией. «Нет, "тургеневской девушки" из меня решительно не получилась», – горько улыбнулась Ольга Фёдоровна. Зато, когда английский лорд Керзон пригрозил её республике новой интервенцией, выскочила из школы с плакатом: «Лорду – в морду!» и потом шагала по Шлиссельбургскому, распевая во всю глотку «Интернационал».
В январе 1924-го написала стихи:
Как у нас гудки сегодня пели!
Точно все заводы встали на колени.
Ведь они теперь осиротели –
умер Ленин, милый Ленин...
Стихи поместили в стенгазете бывшей фабрики Торнтона, отпечатанные на настоящей пишмашинке с крупной подписью: «Ольга Берггольц». Именно «Ольга», а не «Ляля», как её звали дома.
***
Счастливый случай привёл её в дом №1 на Невском, где собиралась литературная группа «Смена»: Александр Гитович, Борис Лихарев, Леонид Рахманов, Геннадий Гор. Вот там и увидела коренастого низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным и глубочайшим оканьем читал стихи: «Дни-мальчишки, вы ушли, хорошие...» Слегка скуластый, читал с таким напором, что Оля сразу подумала: «Это он». Это был Борис Корнилов, её первый муж, отец её первой дочери.
Ох, совсем не просто было привести его в родительский дом – такого звонко-талантливого, чубатого, скуластого, непутёвого, тем более что разное отношение к Богу и несхожие взгляды вообще по «идеологическим вопросам» нарушили нормальные отношения между дочерью и мамой, бабушкой, тётями.
Вместе с Борисом учились на Высших курсах при Институте истории, а там Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский, Соллертинский. А ещё приходили к ним Багрицкий, Уткин, Маяковский. Казалось бы, общие идеалы, вкусы, увлечения сулили семейное счастье, ведь каким солнцем и сегодня светится «Песня о Встречном», в которой он к ней, к Оле, обращается из общей их молодости: «Не спи, вставай кудрявая!» Однако неровный, трудный характер мужа принёс ей немало горя.
Да, как Поэт она начиналась с горя. Корнилов ушёл из её жизни, а потом и вовсе исчез, совсем молодым. После тридцать седьмого его имя называли лишь шёпотом, и она горестно обращалась к нему в стихах:
Ты живёшь ли на белом свете?
Ты лежишь ли в земле сырой?
Встреча с Николаем Молчановым: филологом, человеком большой культуры, высокого духа, помогла Оле вновь обрести себя. Вместе отправились «строить фундамент социализма» в Казахстан, где у неё появились не только стихи, но и газетные статьи, очерковая книга, повесть. Когда Николая призвали в армию, вернулась на родные берега, а там с рабочей Невской заставы отправилась на другую, тоже рабочую, Московскую, на «Электросилу»: возглавила в многотиражке комсомольскую страницу.
Между тем, её уже отметил Горький: «Ваши стихи понравились мне. Они кажутся написанными для себя, честно, о том именно, что чувствуется Вами, о чем думаете Вы, милый человек».
***
Но жизнь готовила «милому человеку» новые испытания.
– В 1937-м меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли ещё до этой катастрофы). Душевная рана наша, моя и Николая, зияла и болела нестерпимо.
Вот что ей тогда выпало. Ирочку болезнь унесла в восьмилетнем возрасте, Майечку – когда и года не исполнилось. Долго будет потом терзать её память «птичий милый отпечаток, дочери погибшей башмачки». Долго будут сниться «весёлые ручонки», которые «играли, и в ладушки били, и сердце держали моё». Ещё одна попытка иметь ребёнка закончилась тоже трагически: когда его ждала, оказалась за решеткой...
Где жду я тебя, желанный сын?!
– В тюрьме, в тюрьме!
Ты точно далёкий огонь, мой сын,
в пути, во тьме...
Один из тех, кто заявился к ней с ордером на арест, увидев на стене чёрно-белую репродукцию боттичеллиевской «Мадонны», сухо поинтересовался: «Это ты, что ли?»
***
Дойдя до этого момента в своём монологе, Ольга Фёдоровна закрыла глаза и долго лежала так молча... Потом продолжила:
– Когда привезли на Литейный и ввели в общую камеру, я ужаснулась: «Сколько врагов народа». Навстречу шагнула женщина, внимательно посмотрела на меня и сказала: «Деточка, ты ждёшь ребёнка. Предупреди их, ведь здесь бьют...» Потом кто-то спросил: «Как там Мадрид?» – «Мадрид вчера пал». Все в камере молча встали. «Нет, это не враги», – подумала я.
Та, которая первой шагнула ей навстречу, звалась Маргаритой Коршуновой.
Никто никогда не узнает,
о чём говорили мы с ней.
Но видеть хочу, умирая,
её у постели моей.
Ольга попросила Маргариту: «Если вдруг выйдешь первой, разыщи Колю Молчанова, расскажи ему обо мне всё-всё. А потом, в знак того, что ваша встреча состоялась, пусть он передаст «на ларёк» не сто рублей, как всегда, а восемьдесят пять».
Предчувствие сбылось: Маргариту действительно выпустили первой. И однажды, как раз в «Олин день», шестнадцатого, она получила «на ларёк» вместо ста рублей долгожданные восемьдесят пять! Легла на матрас и в темноте твердила сама себе счастливая: «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы».
Выйдя из тюрьмы, узнала, что на комсомольском собрании Николая долго уламывали: «Отрекись – и всё будет в порядке». А он: «Оля ни в чём не виновата».
Тогда посыпались угрозы: «Или отрекаешься, или комсомольский билет на стол!» Он выдернул билет из кармана: «Нате!» – и за дверь.
Друг мой, ты спросишь - как же я выжила?
Как не лишилась души, ума?
Голос твой милый всё время слышала!
Его не могла заглушить тюрьма.
В себя приходила с трудом. Обращала к Родине строки, полные горького недоумения, гордой мольбы:
Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.
Сквозь жалкое предательство друзей,
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.
Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай – я больше не могу.
Лишь сорок первый, Лишь Великая Отечественная, лишь всенародное бедствие заставили её по-настоящему очнуться после пережитого. Горе теперь у всех было общее.
***
Да, все личные обиды, беды – в сторону, потому что в опасности сама Родина! И в первые же часы фашистского нашествия она находит для Родины в своём сердце такие слова, что ком в горле:
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришёл. Вот – жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!..
...Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с тёмной радугой над головой...
– То, что мы останемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба, это мы с Николаем решили твёрдо с первых дней войны. Я должна была встретить испытание лицом к лицу.
Так Ольга Берггольц стала поэтической музой, поэтическим знаменем блокадного Ленинграда. Так начинался её великий подвиг, о котором уже сказано столько высоких и прочувствованных слов. Что мне к ним ещё добавить?
Разве и сегодня, через столько лет, старым блокадникам забыть этот такой родной, с лёгкой картавинкой голос, врывавшийся из чёрной тарелки репродуктора в заледенелые их жилища:
О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба –
он почти не весит на руке.
Разве до самого смертного часа возможно этим людям вычеркнуть из памяти такие строки:
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим – клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.
И где-то в Москве, Машенька, сестра, слышала из ленинградского блокадного кольца обращенное к ней:
Присягаю ленинградским ранам,
первым разорённым очагам:
не сломлюсь, не дрогну, не устану,
ни крупицы не прощу врагам.
И где-то на далёкой Каме, мама, Мария Тимофеевна, приникнув к репродуктору, ловила голос дочери:
О, какая отрада, какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
"Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала известия первых побед".
Какие потрясающие письма спешили к ней с фронта по адресу «Ленинград, Ольге Берггольц». Их тысячи! А вот это даже в стихах:
В дни суровой и тяжёлой схватки
С тёмной силой вражеских колонн
Я услышал голос ленинградки,
Прозвучавший, как набатный звон.
Она помогала выстоять, выжить другим и продолжала счёт личным утратам. В канун трагического новогодья обратилась по радио к землякам:
– Ещё никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне нечего рассказывать вам, какая она...И всё-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник!
А в это время умирал её Николай.
***
Но она опять ведь ждала ребёнка. Несмотря ни на что, по-прежнему жаждала материнства. Однако дистрофия делала своё страшное дело. Радиокомитет командировал Олю в Москву. Увидев её, писательское начальство начинало понимать, что это такое - ленинградская блокада.
Из её письма:
Была сегодня утром у профессора. Всё, что произошло со мной, сложная блокадная комбинация из истощения, отёков и непобедимого здоровья. <...> Я уже совсем поверила в появление крестника красных командиров, я ждала его, ни от кого не скрывала этого, радовалась ему, гордилась им – и вот обман. Никакого сына, и, может быть, очень надолго <...> Мне уже некого больше беречь. Я хочу быть в Ленинграде.
Она вернулась в Ленинград. Снова приняла на себя его муки. Снова заступила на свой пост, в меру сил приближая такую желанную, такую выстраданную Победу. И когда этот день настал, выдохнула в микрофон сквозь слёзы:
Я четыре года самой гордой –
русской верой – верила, любя,
что дождусь – живою или мёртвой,
всё равно, – но я дождусь тебя.
***
И после жизнь её не баловала. В сорок шестом, когда разразилась гроза над Ахматовой и Зощенко, когда оба они не только были исключены из союза писателей, но и лишены хлебных карточек (в Ленинграде после блокады лишить хлебных карточек!), пала тень и на Берггольц, посвятившую в печати творчеству Анны Андреевны добрые слова. Но Берггольц, не думая о последствиях, получала свой «писательский» паёк и снова шла с судками в «Фонтанный дом», к Ахматовой. И к Зощенко шла.
Ольга Фёдоровна поведала мне, как её тогдашний муж, красивейший, талантливейший Георгий Пантелеймонович Макогоненко, он в 50-е был в университете моим любимым профессором, становился на её пути в дверях: «Оля, не ходи! Оля, это опасно!»
– А вы?
– А я говорила: «Юрочка, они же кушать хочут».
Она так и произнесла протяжно: «Хо-чу-ут».
Однажды, когда Берггольц прилюдно упрекнули в помощи «враждебным элементам», в ответ резко бросила: «У революции нет такой меры наказания, как голодная смерть».
Лидия Корнеевна Чуковская 16.08.56 записала слова Анны Андреевны Ахматовой: «Относительно меня Оля всегда вела себя безупречно».
В сорок девятом, когда стали забирать по «Ленинградскому делу», тоже приготовилась к самому худшему. Сжималось сердце от звонка в дверь, от звонка телефонного:
Я не люблю звонков по телефону,
когда за ними разговора нет.
"Кто говорит? Я слушаю!" В ответ
молчание и гул, подобный стону.
***
В общем, всего хватало в её судьбе – признания, гонения, любви, хулы, дружбы и предательства. Давило одиночество. Силы подтачивались. И рука тянулась к бутылке. Но кто, зная всё это, может бросить в неё камень?!
И всё-таки писала. Как писала! Вспомните хотя бы несколько названий: поэма «Первороссийск», трагедия «Верность» («От сердца к сердцу, только этот путь я выбрала...»), «Дневные звёзды» – книга, которую она назвала делом всей жизни.
Мы говорили о фильме «Дневные звезды». Похвалив Аллу Демидову, Берггольц добавила: «Я подарила ей подсвечник. Потому, что считаю: пока свеча горит, человек думает».
Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце моё говоришь.
Именно ей выпало высокое право найти в сердце слова для гранитных плит Пискаревского мемориала:
Здесь лежат ленинградцы,
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети...
.................................................................................................
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт, и ничто не забыто!
***
Один за другим уходили самые близкие: Луговской, Пастернак, Герман, Яшин, Светлов, Ахматова.
Когда в трудное для «Нового мира» время на встрече ленинградцев с сотрудниками журнала не оказалось достаточно смелых, чтобы выступить, слово взяла Берггольц: «Я очень хорошо помню, каким был в блокаду и этот дом на Невском, где мы собрались, и соседний, где на стене была надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!" У нас в гостях "Новый мир" во главе с замечательным поэтом и редактором Александром Твардовским. Об этом журнале спорят. И, похоже, что для кого-то сегодня наиболее опасна эта сторона улицы. Мы ничего не боялись в блокаду, чего же мы можем бояться сегодня?!»
И вот не стало Твардовского.
Смиряться с потерями становилось всё трудней.
И она сгорела задолго до срока.
***
Над её гробом Фёдор Абрамов сказал:
– Нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда, на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамён и стягов, ибо Ольга Берггольц – великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда.
И читал Глеб Горбовский на Волковом, на Литераторских мостках, над её могилой:
Прощай... На гробе снег шуршит.
И хоть длинна командировка,
Берггольц лежит на Пискарёвке –
там, где душа её лежит...
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!