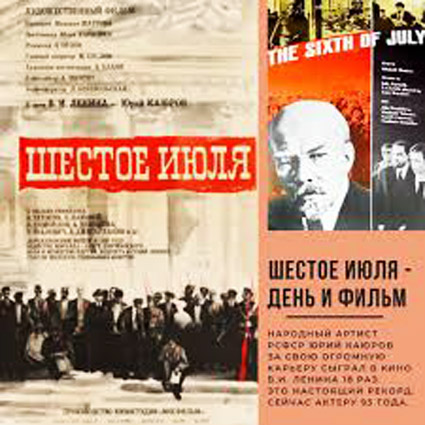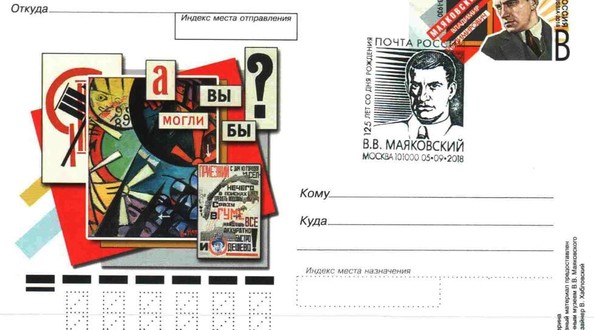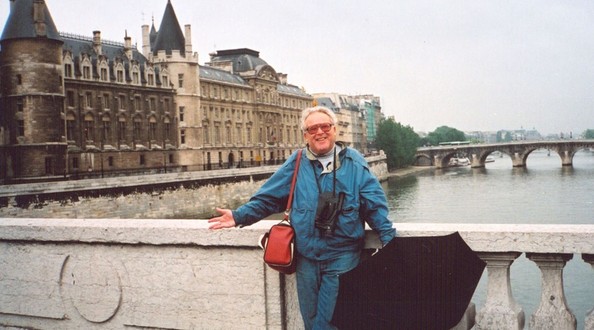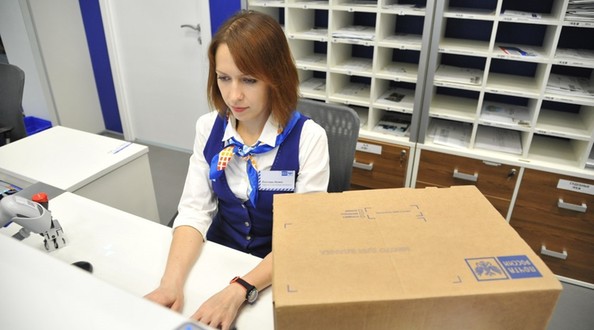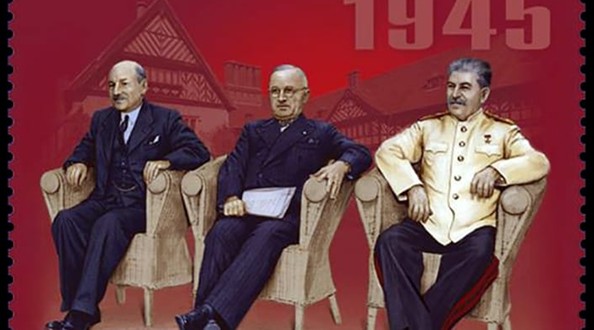Лев Сидоровский: А был ли мятеж 6 июля 1918 года?

21 июля 2025
6 июля 1918 года в нашей стране началось господство партии большевиков.
Конечно, вы помните фильм Юлия Карасика «Шестое июля», который вышел в 1968-м. Тогда, пожалуй, впервые без всяких «котурнов» явились на экране Ленин в исполнении Юрия Каюрова, Свердлов (Владимир Татосов), Дзержинский (Василий Лановой), другие их сподвижники.
И главное - о трагических событиях, случившихся в июльские дни 1918-го (открытие 5-го всероссийского съезда Советов, спор вокруг Брестского мира, убийство Мирбаха, восстание левых эсеров, арест «железного Феликса», помощь «латышских стрелков») рассказывалось очень сдержанно, всерьёз. И что ещё очень важно: оппоненты большевистских лидеров предстали не окарикатуренными, как было принято прежде, а достойными противниками.
Именно об этом вскоре после выхода фильма вёл я разговор с отличной и мудрой актрисой Аллой Демидовой, которая блестяще воплотила образ одной из руководительниц партии левых эсеров Марии Спиридоновой.
Алла Сергеевна о работе над ролью рассказывала:
– Мне казалось, что противостоять Ленину могла только сильная личность. И поэтому её нельзя было «обличать» сразу. Ведь тогда, в 1918 году, на съезде, после речи Спиридоновой ей аплодировали 80% делегатов, и понадобилась только мощь Ленина, чтобы весь зал повернуть в другую сторону. Как же играть? Какими исполнительскими средствами воспользоваться, чтобы зритель, сидя сейчас в кинотеатре, чувствовал себя, как в восемнадцатом году: вроде бы верные вещи говорит Спиридонова, а что-то не то.
Действительно, вспомните, ведь Спиридонова в споре о Брестском мире говорила, что нельзя отдавать на растерзание немцам братьев, которые остались на Украине и в Прибалтике, что надо выручать их, надо бороться. Против таких демагогических призывов трудно что-нибудь возразить. Но, говоря всё это, я пользовалась несколько истерическими нотками. А когда человек говорит вроде бы правильные вещи, но при этом излишне волнуется и экзальтирован, то у вас подсознательно возникает ощущение: что-то не то.
Тем более, после этого уверенная, спокойная речь Ленина уже чисто эмоционально выглядит правдой. Даже без слов. Или, например, я просила для Спиридоновой сшить костюм на два номера больше. Мне казалось, что сутулость моих плеч, опущенные складки костюма, опущенные кисти рук тоже подчёркивают какую-то обречённость, но не «в лоб», а подсознательно. Вроде всё это детали чисто профессиональные. Но ведь их отбираю я. И через эти профессиональные вещи говорю зрителям то, что хочу сказать через свою роль об этом человеке, об этом времени.
***
Да, тот фильм весьма талантлив. Но исторически неточен. Московский мятеж левых эсеров – одно из самых загадочных, противоречивых и судьбоносных политических событий в послереволюционной России. После его подавления сначала в России, а спустя четыре года – на всей территории только что созданного Советского Союза установилось безраздельное господство партии РСДРП(б), которая после своего седьмого съезда в 1918-м стала называться Российской коммунистической партией (большевиков), с 1925-го – Всесоюзной коммунистической партией (большевиков), а с 1952-го – Коммунистической партией Советского Союза, объявившей себя «умом, честью и совестью нашей эпохи». Всё это продолжалось 71 год, восемь месяцев и шесть дней.
***
Итак, согласно официальной версии, левые эсеры, которые с октября 1917-го входили в правительственную коалицию с большевиками, поставили своей целью нарушить Брестский мир с немцами и захватить власть в стране. Поэтому 6 июля 1918 года в 14 часов 15 минут у дома № 5 в Денежном переулке, где располагалось германское посольство, остановился тёмный «паккард», из которого вышли двое.
Показав швейцару удостоверение Всероссийской чрезвычайной комиссии, потребовали встречи с послом. Граф Вильгельм фон Мирбах был предупреждён о возможном покушении на свою жизнь, но узнав, что приехали официальные представители ВЧК, к ним вышел вместе с советником посольства доктором Куртом Рицлером и адъютантом военного атташе лейтенантом Леонгартом Мюллером в качестве переводчика.
Чекист, представившийся Яковом Блюмкиным, предъявил Мирбаху бумаги, которые якобы свидетельствовали о шпионской деятельности «племянника посла», некоего Роберта Мирбаха. Дипломат ответил, что об этом родственнике не имеет никакого понятия.
Тогда второй сотрудник ВЧК Николай Андреев поинтересовался, не хочет ли граф узнать о мерах, которые собирается предпринять советское правительство. Мирбах кивнул. И тут Блюмкин выхватил револьвер, открыл огонь. Он сделал три выстрела в Мирбаха, Рицлера и Мюллера, но ни в кого не попал.
Посол бросился бежать. Андреев швырнул бомбу, а когда она не взорвалась, выстрелил в Мирбаха, смертельно его ранив. Обливаясь кровью, граф упал на ковёр. Блюмкин же поднял не сработавшую бомбу и метнул её вторично. Раздался взрыв, под прикрытием которого убийцы бросились наутёк. Оставив на столе удостоверение ВЧК, «Дело Роберта Мирбаха» и портфель с запасным взрывным устройством, террористы выпрыгнули в разбитое окно и через сад рванули к автомобилю.
Андреев был в «паккарде» уже через несколько секунд, а вот Блюмкин приземлился крайне неудачно: сломал ногу. С трудом стал карабкаться через ограду. Немцы открыли беспорядочную стрельбу, пуля угодила Блюмкину в ногу, но до машины добрался. В 15 часов 15 минут Мирбах умер.
***
Далее, согласно официальной версии, события разворачивались так.
Дзержинский прибыл на место теракта, всё понял и отправился в гнездо мятежа – спецполк ВЧК, базировавшийся в Трёхсвятительском переулке.
Командир полка Дмитрий Попов, тоже левый эсер, «железного Феликса» задержал, и потом судьба «рыцаря революции» около пяти часов висела на волоске, пока его не освободили латышские стрелки Иоакима Вацетиса.
Узнав о случившемся, Ленин и Свердлов приказали арестовать руководство левых эсеров, находившееся в Большом театре на заседании 5-го съезда Советов. К утру следующего дня с мятежом было покончено.
В час ночи 7 июля на места ушла телеграмма Ленина: «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов. Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще».
Немцы, получив официальные извинения и заверения, что виновники убийства посла будут наказаны, не стали начинать военные действия из-за тяжёлой ситуации на Западном фронте.
***
Однако в этой версии немало неясностей, которые уже давно волнуют отечественных историков. И прежде всего: только ли Блюмкин и Андреев, левые эсеры, желали гибели Мирбаха?
Летом 1918-го большевики, тяготясь «похабным», «грабительским» и «кабальным» миром с германскими империалистами, вынуждены были его соблюдать, так как судьба русской революции теперь зависела от Берлина.
Между тем, положение германских войск на Западном фронте становилось всё более тяжёлым, в связи с чем военно-политическая элита Германии остро нуждалась в сохранении подписанного в Брест-Литовске мирного договора. В то же время она искала правительству Ленина политические альтернативы, всячески поддерживая в России антисоветские силы.
Таким образом, граф Мирбах, который до назначения в Москву был послом в Швейцарии и мог многое знать о финансировании Ленина и его сторонников германской разведкой, вынужден был каким-то образом проводить сразу две взаимоисключающие политические линии.
Однако сам считал, что Германии надо ориентироваться всё-таки на ленинское правительство, поскольку те силы, которые, возможно, сменят большевиков, будут стремиться с помощью Антанты вернуть территории, отторгнутыми от России по Брестскому миру.
Вот и телеграфировал Мирбах в Берлин сразу после беседы с Лениным 16 мая: чтобы удержать большевиков у власти, необходимы единовременно 40 млн марок, а ещё по 3 млн ежемесячно.
Хотя посол совсем не был уверен, что Ленин с помощью немецких денег, способствовавших приходу большевиков к власти в октябре 1917-го, удержится у руля правления впредь. Поэтому он предложил подстраховаться, заранее сформировав в России прогерманское антисоветское правительство.
В письме от 25 июня сообщал, что не может «поставить большевизму благоприятного диагноза»: «Мы, несомненно, стоим у постели опасно больного человека, который обречён».
Исходя из этого, он предлагал заполнить «образовавшуюся пустоту» новыми «правительственными органами, которые мы будем держать наготове и которые целиком и полностью будут состоять у нас на службе». Причём представители скинутых ещё в ноябре 1917-го политических партий, так называемые «правые», мигом поняли, что немцы, которых большевики привели в Россию, и мир с которыми составлял единственную основу их существования, готовы сами большевиков свергнуть.
Советское правительство о перемене настроений немцев знало тоже. Не случайно же именно в это время в важнейшем отделе ВЧК по борьбе с контрреволюцией возникло отделение контрразведки, нацеленное на работу против германского диппредставительства: «Отделение по борьбе с немецким шпионажем» возглавил 19-летний Яков Блюмкин, одним из сотрудников (фотографом) которого был Николай Андреев.
***
Другого сотрудника, Якова Фишмана, под видом электрика Блюмкин внедрил в германское посольство, вскоре у него в руках оказался план помещений и состав внутренней охраны дипмиссии.
Позднее начальник отдела по борьбе с контрреволюцией Мартин Лацис вспоминал: «Блюмкин хвастался тем, что его агенты дают ему всё, что угодно, и что таким путём ему удаётся получить связи со всеми лицами немецкой ориентации».
Но для убийства Мирбаха Блюмкину и Андрееву надо было лично проникнуть в хорошо охраняемое здание посольства, которое юридически считалось территорией Германии. И добиться встречи с послом.
В качестве предлога Блюмкин сфабриковал «дело» якобы «племянника посла», «австрийского военнопленного» Роберта Мирбаха, которого чекисты обвинили в шпионаже. На самом деле, Роберт Мирбах - просто однофамилец кайзеровского дипломата, ни в австро-венгерской, ни в германской армиях никогда не служил: он был русским подданным и до своего ареста жил в Петрограде, где в Смольном институте работал по хозяйственной части.
Основной уликой в руках Блюмкина стал документ, якобы подписанный «шпионом»: «Обязательство. Я, нижеподписавшийся, венгерский подданный, военнопленный офицер австрийской армии Роберт Мирбах, обязуюсь добровольно, по личному желанию доставить Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией секретные сведения о Германии и о Германском посольстве в России. Всё, написанное здесь, подтверждаю и добровольно буду исполнять».
Разумеется, никаких «секретных сведений» хозяйственник Смольного института сообщить чекистам не мог: он их просто-напросто не знал. Да и выглядит документ весьма сомнительно: текст написан на русском одним почерком (очевидно, рукой Блюмкина), а последнее предложение – на русском и немецком (с ошибками) и подписи – по-русски и по-немецки – другим почерком.
Затем на бланке ВЧК Блюмкин напечатал удостоверение: «Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает её члена Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с господином Германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу. Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Ф. Дзержинский. Секретарь Ксенофонтов».
И удостоверение, и папку под названием «Дело Роберта Мирбаха» террористы впопыхах оставили в немецком посольстве. После покушения эти документы стали главными уликами.
***
По показаниям Дзержинского следственной комиссии ВЦИК, его подпись на удостоверении была подделана, значит, к убийству германского посла он не причастен. Однако левый коммунист и противник Брестского мира, чья родина – Польша – была оккупирована немцами, вёл свою политическую игру.
Очевидно, Ленин, Свердлов и Троцкий рассматривали события 6 июля как совместный заговор чекистов и эсеров. 7 июля «железный Феликс» подал в Совнарком официальное заявление об освобождении его от должности председателя ВЧК, поскольку являлся «одним из главных свидетелей по делу об убийстве германского посланника графа Мирбаха».
Вопрос о снятии Дзержинского рассматривался на специальном заседании ЦК РКП(б). Видимо, чтобы немцев несколько успокоить, этому постановлению Ленин придал демонстративный характер: оно было напечатано не только в газетах, но и расклеено по Москве. К тому же коллегия ВЧК объявлялась распущенной и в недельный срок подлежала реорганизации.
Показания Дзержинского – документ весьма путаный и противоречивый. Так, обвинения уже известного нам Курта Рицлера, заявившего, что председатель ВЧК «смотрит сквозь пальцы на заговоры, направленные непосредственно против безопасности членов германского посольства», Феликс Эдмундович называл «выдумкой и клеветой». Но по утверждению лейтенанта Мюллера, в начале июня в посольства обратился кинематографист Владимир Гинч, заявивший, что подпольной организацией «Союз союзников», членом которой он стал, готовится убийство графа Мирбаха. Об этом Рицлер сообщил заместителю наркома иностранных дел Карахану, который, в свою очередь, информировал Дзержинского.
Когда Гинч вторично, 28-го, предупредил посольство и примерно за десять дней до покушения назвал дату готовящегося теракта – между 5 и 6 июля, Дзержинский пошёл с ним на личный контакт. Во время встречи в «Метрополе» он услышал от Гинча, что в деле замешаны сотрудники ВЧК.
По указанному адресу был произведён обыск и арестован британский подданный Уайбер – «главный организатор заговора». Чекисты обнаружили «шесть листков шифрованных», ознакомившись с которыми Дзержинский заявил, что «кто-то шантажирует и нас, и германское посольство, и что, может быть, гр. Уайбер жертва этого шантажа». О чём и было доложено Рицлеру с Мюллером.
Они сделали вывод, что Дзержинский «приблизительно с половины июня с.г.» знал о «готовившемся покушении на жизнь членов германского посольства и заговоре против Советской власти», но для их пресечения не сделал ничего.
Председатель ВЧК, в свою очередь, утверждал, что «опасался покушений на жизнь гр. Мирбаха со стороны монархических контрреволюционеров, желавших добиться реставрации путём военной силы германского милитаризма, а также со стороны контрреволюционеров-савинковцев и агентов англо-французских банкиров». Тем временем подчинённые Дзержинского завершали подготовку теракта против посла германского кайзера.
Вот что говорил председатель ВЧК о своих сотрудниках, ставших убийцами Мирбаха: «Кто такой Андреев, я не знал»; «Блюмкина близко не знал и редко с ним виделся». Ой ли? О том, что у него трудится простой фотограф Андреев, Дзержинский мог, конечно, не ведать, но уж с Блюмкиным, начальником важнейшего направления советской контрразведки, отделения по борьбе с германским шпионажем, наверняка виделся достаточно часто. Да и сам Блюмкин в апреле 1919-го подтверждал, что вся его «работа в ВЧК по борьбе с немецким шпионажем, очевидно, в силу своего значения, проходила под непрерывным наблюдением председателя Комиссии т. Дзержинского и т. Лациса».
Трудно сказать, действовал ли Блюмкин по прямому указанию Дзержинского. Однако косвенные данные свидетельствовали, что о его намерениях Феликс Эдмундович знал. Так, ещё до теракта он принял решение «нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности» (тот обвинялся в нарушении законности и превышении власти).
Несмотря на это, утром 6 июля он смог получить от Лациса следственное дело Роберта Мирбаха, оформить на себя и Андреева удостоверение, вызвать служебный автомобиль и отправиться в германское посольство.
Следовательно, формально отстранённый от должности Блюмкин с молчаливого согласия Дзержинского продолжал готовить теракт. Более того, как свидетельствовал нарком просвещения Луначарский, Ленин в его присутствии сразу после покушения на Мирбаха отдал по телефону такой приказ об аресте убийц: «Искать, очень тщательно искать, но не найти». И тех, действительно, «не нашли».
***
Это парадоксально, но больше всего от убийства Мирбаха выиграл именно Ленин, которому удалось с помощью официального Берлина сохранить Брестский мир, а последнее препятствие на пути к однопартийной диктатуре большевиков – партию левых эсеров – уничтожить.
Сотрудник советского полпредства в Берлине Георгий Соломон вспоминал, как нарком торговли и промышленности Леонид Красин, вскоре после июльских событий приехавший в Германию для подготовки экономического соглашения, говорил ему, что «такого глубокого и жестокого цинизма» он в Ленине «не подозревал». Оказывается, Ленин 6 июля рассказывал Красину, как он предполагает выкрутиться из кризиса, созданного убийством Мирбаха, и «с улыбочкой» говорил, что мы «произведём среди товарищей левых эсеров внутренний заём и таким образом и невинность соблюдём, и капитал приобретём».
Владимир Ильич мог быть доволен тем, как разворачивались дальнейшие события, и вскоре Дзержинского «простил». Новая коллегия ВЧК была сформирована при непосредственном участии «железного Феликса», уже 22 августа «карающий меч революции» вновь оказался в его руках.
Что касается немецкого кайзера, то он, хотя и предъявил советскому правительству ультиматум, возобновлять войну против России сил уже не имел и, наоборот, призвал «поддерживать большевиков при любых условиях».
***
Еще о некоторых «странностях» этого мятежа. Например, в Москве левые эсеры для захвата власти не сделали ровным счётом ничего и вообще никакого сопротивления не оказывали. Тот же отряд Попова, насчитывавший почти две тысячи бойцов, имевший орудия и броневики, до самого разгрома с места так и не сдвинулся: вся оборона занятых позиций свелась к отсиживанию в двух зданиях Трёхсвятительского переулка.
А «арест» Дзержинского свёлся к тому, что глава ВЧК мирно пил с подчинённым чай. Отчего же Попов бездействовал? Потому ли, что верхушка его партии оказалась в заложниках у большевиков?
Тогда возникает вопрос: зачем левые эсеры назначили мятеж именно на 6 июля, зная, что всё их руководство будет находиться в Большом театре, как в ловушке? Более того: если замышлялся государственный переворот, к чему убивать Мирбаха и тем самым оповещать противника? Взяли бы власть и строили отношения с Германией, как хотели.
Самым полным сборником материалов о событиях 6-7 июля и главным доказательством вины левых эсеров по сей день считается изданная в 1920-м «Красная книга ВЧК», содержащая, в частности, и протокол заседания левоэсеровского ЦК от 24 июня, где якобы принималось решение убить Мирбаха.
Однако о покушении там нет ни слова, а слово «восстание» относится к выступлению против немцев на Украине. Из той же книги известны показания Блюмкина о том, что приказ убить Мирбаха он получил 4 июля в гостинице «Националь» от «одного члена ЦК партии левых эсеров». Имени этого человека у него почему-то не спросили.
***
Ряд историков считает, что никакого «левоэсеровского мятежа» не существовало вообще. Была провокация большевиков с целью разогнать последнюю независимую от них политическую организацию, а заодно покончить со слишком много знавшим и неудобным дипломатом.
По этой версии, ни ЦК левых эсеров, ни Попов ничего не замышляли, и Дзержинский отправился в отряд, чтобы удержать подчинённого от спонтанного выступления.
Ну и насчёт эпизода с батальоном германской пехоты, который немцы после убийства Мирбаха якобы требовали ввести в Москву для охраны посольства, мнение нынче тоже изменилось. Если, по официальной версии, Ленин наотрез отказал немцам потому, что «это означало бы начало оккупации», то современные исследователи предполагают, что если такие переговоры действительно велись, то батальон был нужен для охраны не столько посольства, сколько советского правительства.
Кроме того, архивные материалы подтверждают, что большевики готовились к «подавлению мятежа» задолго до его начала. Так, командир латышской дивизии Вацетис ещё 18 июня объявил состояние повышенной готовности, причём, как после писал в мемуарах, отлично знал, против кого предстоит действовать.
4 июля, в день открытия съезда Советов, по приказу Свердлова на все важные посты внутри Большого театра и вокруг него были выставлены усиленные караулы латышских стрелков.
В тот же день, 6 июля, произошли реальные вооружённые выступления в Ярославле, Рыбинске и Муроме, организованные Борисом Савинковым. Большевики подозревали, что он хотел «расчистить путь» на Москву англичанам, которые к тому времени высадились в Архангельске. Поскольку восстание савинковцев удалось быстро подавить, помощь немцев не понадобилась.
***
И самое во всей этой истории удивительное: Якова Блюмкина, исполнителя чудовищной провокации, едва не закончившееся гибелью советской власти, который объявился «с повинной» только в мае 1919-го, даже не выгнали со службы. В 1920-м он был принят в партию большевиков, тогда же выполнял важную миссию в иранском Азербайджане, где временно возникла Гилянская советская республика. В 1927-м, к 10-летию ВЧК-ОГПУ, получил золотое оружие и через два года был расстрелян, причём не за убийство Мирбаха, а за тайную встречу в Турции с Троцким.
Второго убийцу, Андреева, также не тронули, и он вскоре умер от тифа. А Попова расстреляли в 1921-м, но, опять-таки, не за 6 июля, а за то, что побывал помощником Махно.
Да и с лидерами левых эсеров поначалу обошлись как-то не по-большевистски мягко: уже 10 июля почти всех выпустили в честь принятой на съезде первой советской конституции.
Позднее, 27 ноября, Ревтрибунал при ВЦИК рассмотрел дело о «заговоре ЦК партии левых эсеров против Советской власти и революции», однако из 14 обвиняемых в зале присутствовали лишь двое, которым дали по три года принудительных работ.
Правда, потом все они многократно арестовывались, мыкались по ссылкам и в конце концов были расстреляны. Марию Спиридонову казнили последней – в сентябре 1941-го.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Афиша кинофильма «Шестое июля».
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!