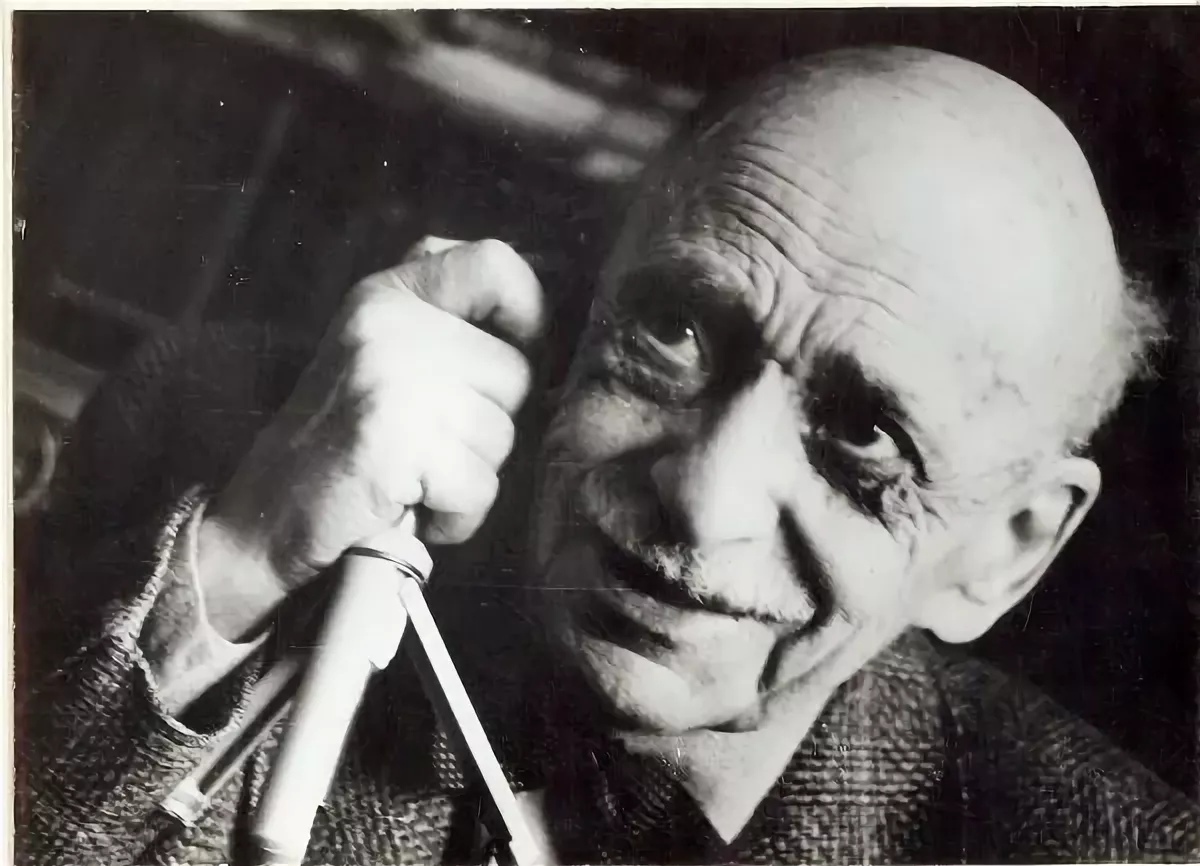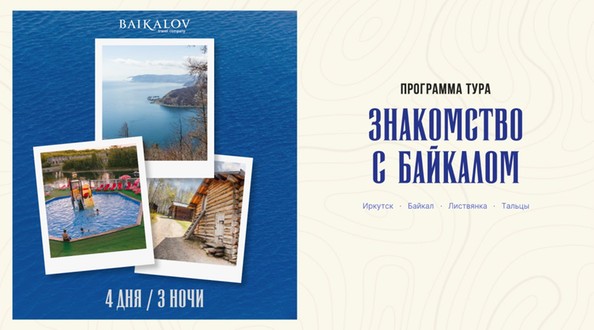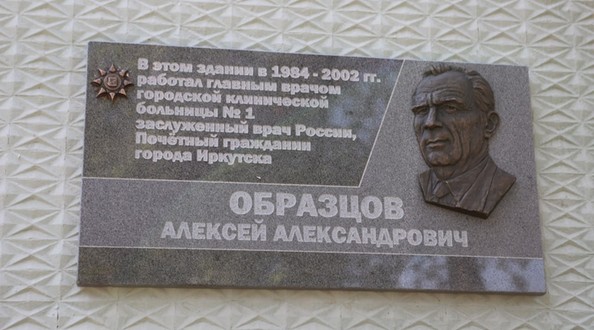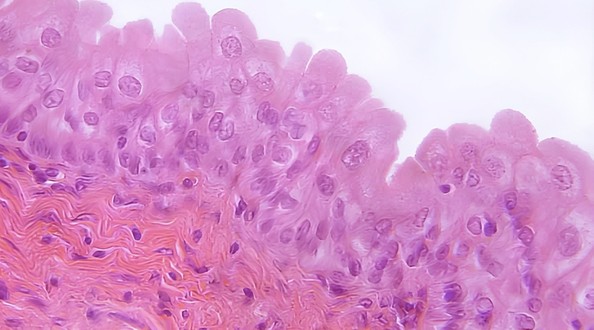Лев Сидоровский: «Современник стольких катастроф» Павел Антокольский

02 июля 2025
1 июля 1896 года родился Павел Григорьевич Антокольский. О встрече с ним рассказывает журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский.
В 1973-м я пришёл к нему ранним утром, чтоб поговорить о Маяковском, с которым Антокольский немного приятельствовал. Сияя крупными черносливами пронзительных глаз, подчёркнутых тёмно-фиолетовыми кругами бессонницы, маленький, щупленький Павел Григорьевич сразу схватил меня за рукав и потянул на кухню:
– Угощу вас таким кефиром!
Услышав, что гость ничего молочного отродясь не употребляет, энергично ткнул в мою грудь указательным пальцем:
– Вы как Зиночка Гиппиус! Она тоже молочное не переносила!..
Когда с завтраком было покончено, а затем всё про Маяковского (в связи с приближающимся 80-летием) обговорено, я спросил собеседника: мол, как случилось, что он, обучавшийся актёрскому мастерству у самого Евгения Багратионовича Вахтангова, вдруг стал поэтом? Павел Григорьевич со смаком пыхнул трубкой и весело воскликнул:
– А я с Вахтанговым поссорился! Сначала перепробовал в его студии все театральные профессии: играл на сцене, передвигал и приколачивал декорации, занимался режиссурой, писал стихотворные пьесы (причём одновременно служил в революционной милиции и в жилотделе Моссовета), а потом от Вахтангова ушёл и стал усиленно посещать на Тверской «Кафе поэтов». Там встретился с Брюсовым, который мои стихи напечатал. Потом Евгения Багратионовича не стало, а у меня началась параллельная жизнь: с одной стороны, выпускал книжки со стихами и поэмами, с другой, у вахтанговцев, – ставил спектакли, побывал с театром в Швеции, Германии, Париже... И «отравился» Западом...
Да, богатейшая история Европы поэта захватила надолго. Особо знаменитым стало стихотворение «Санкюлот» - так в Великую французскую революцию называли революционеров:
«Был в Париже голод. По-над глубью
Узких улиц мчался перекат
Ярости. Гремела канонада...»
А как он это читал: голос – громкий, жест – римского оратора, кулак – вверх и как можно выше! В нём самом жили Барбье, Гюго. Еще глубже в историю – Вийон, якобинец, санкюлот. И дальше нёсся по жизни, никак ею не насыщаясь.
«Действующие лица» – так называлась одна из его книг начала 30-х: действительно, разных лиц в поэзии Антокольского было множество, и все преимущественно западные, и опять же признание: «Мой сверстник, мой сон, мой Париж» – так что было за что бить поэта потом, когда боролись с «проклятыми космополитами». Искусством красноречия владел блестяще. К трибуне шёл, сияя карими пронзительными глазами, под которыми всегда были темно-фиолетовые круги бессонницы и усталости, устраняемой изрядными порциями кофе или водки. В состоянии покоя и благодушия его застать было невозможно.
Друзья! Мы живём на зелёной земле.
Пируем в ночах. Истлеваем в золе.
Неситесь, планеты, неситесь, неситесь!
Ничем не насытясь,
Мы сгинем во мгле…
Антокольский и сам нёсся по жизни, никак ею не насыщаясь: много писал и много издавал, занимался переводами – Чиковани, Табидзе, Бажана, Первомайского, Чаренца, Вургуна.
***
Войну воспринял как великое эпохальное событие, в котором непременно следует участвовать. Жену и дочь отправил в эвакуацию и спустя некоторое время им сообщал:
«Моя жизнь конечно, нелегка, но удивительно радостна и полна. Может быть, предстоит назначение во фронтовую или армейскую газету – вещь почётная и необходимая. Поеду – ближе к боям, к великой истории. Из театра, который эвакуирован в Омск, было несколько вызовов, но я удержался, чтобы быть поближе к Москве. Для меня Омск и Ташкент были бы равнозначны сдаче. Ни за что!»
К Москве в стихах обращался нежно:
...Такой тебя запомню навсегда я:
Прифронтовая, грозная, седая,
Завьюженная до бровей.
В те дни, месяцы он писал так много, как никогда прежде. Старался быть поближе к передовой и как военный корреспондент, и как участник передвижного фронтового театра. Конечно, походная жизнь немолодого человека изнуряла, но он знал: где-то сейчас воюет его сын-артиллерист, поэтому и отец тоже должен молодцом держаться.
И вдруг, ровно через месяц после того, как на Киевском вокзале с сыном простился, – извещение: «Младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский 6 июня 1942 года пал смертью храбрых».
***
И потом в землянках и опустевших, полуразрушенных избах, когда усталые актёры вповалку спали мёртвым сном, он старался заглушить своё горе, слагая строки о сыне...
– Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?
Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слёз не в силах с личика смахнуть...
Отец пристально вглядывался в короткую жизнь своего мальчика...
Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь...
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь,
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда...
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века – так он ждал труда…
Отец обращался к тому, кто под небом Германии произвёл на белый свет убийцу его сына:
Мы на поле с тобой остались чистом, –
Как ни вывёртывайся, как ни плачь!
Мой сын был комсомольцем.
Твой – фашистом.
Мой мальчик – человек.
А твой – палач...
Последние мгновения в жизни сына, сражённого разрывной пулей, отец ощущал со страшной беспощадностью:
Он жил ещё. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля,
И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра земля...
А дальше – стон отца:
Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.
Ты в ней остаёшься. Один. Отрешённый
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешённый.
На веки веков восемнадцатилетний...
…Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребённых.
На этом кончается повесть о сыне.
Так сын шагнул в бессмертную поэму отца, которую потом носили в вещмешках, читали в землянках, твердили про себя в окопной бессоннице. А я помню, как на школьных концертах в нашем подшефном госпитале раненые непременно хотели услышать из «Сына» хотя бы несколько строк...
***
Помимо стихов Антокольский писал статьи, рассказы, эссе. В «Сказках времени» рассказал о Пушкине и Гоголе, Блоке и Брюсове, Вахтангове и Цветаевой. Арсению Тарковскому поведал, как в Париже Марина Цветаева подарила ему свою книгу с надписью из Рильке: «Прошлое ещё предстоит». Сокрушался: «Всю жизнь ломаю голову и не могу понять, что это значит».
Ломать голову надо было и в настоящем: как жить? И следует признать, что Павел Григорьевич принадлежал к тем немногим писателям, кто ухитрялся творить хорошо и в плохое время, стараясь соблюдать человеческую этику, насколько это было возможно. Он мог себе позволить на предложение подписать какую-то дурно пахнущую бумагу крикнуть в телефонную трубку: «Антокольский умер!»
Белла Ахмадулина вспоминала:
- В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: «Я хочу выйти из партии». – «Из какой?» – «А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше».
Свою вторую жену, Зою Бажанову, артистку Театра имени Вахтангова, обожал. Она была хозяйкой его очага, источником радушия и света. Нежно о нём заботилась. Когда однажды её попросили уговорить мужа, чтобы снял подпись под одним обращением к властям, а то, мол, им не подключат строящийся лифт, ответила: «Подпись останется, а без лифта как-нибудь проживём». Когда её не стало, написал пронзительную поэму «Зоя Бажанова»:
Прости за то, что я так стар,
Так нищ, и одичал. И сгорблен.
И всё же выдержал удар
И не задохся в душной скорби…
Он жил взахлёб. На полную катушку. Был лёгким, стремительным и богемным: вместо галстука – бабочка, вместо сигареты – трубка. Оглядываясь на сталинские времена, писал:
Мы все, лауреаты премий,
Вручённых в честь его,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво;
Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда;
Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей…»
В палачи вышли другие. Антокольский был чист. Его интересовала только литература. Он был мостом между старшим и молодым поколением русских поэтов. Знал и слышал Маяковского и Есенина, дружил с Тихоновым и Заболоцким, стал учителем для Михаила Луконина, Семёна Гудзенко, Александра Межирова, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. А до них ввёл в литературу Симонова, Алигер, Матусовского, Долматовского… Он был добр и независтлив, что не так уж часто бывает в литературном цеху. Однажды написал:
Я, современник стольких катастроф,
Жил-поживал, а в общем жив-здоров…
Однако после кончины жены он стал угасать. На даче в Красной Пахре, где прежде, при Зое, он – «Павлик», «Павличек» (так она его звала), старый, лысый, с трубкой из-под щёточки седых усов, но вечный ребёнок, со сверкающими чёрными глазами, раскатывая голос на рокочущих звуках, читал стихи, теперь, когда её не стало, быстро сник, как бы усох в огромном своём махровом халате.
Подниматься по лестнице в свой кабинет он уже не мог, и ему отвели внизу крохотную комнатушку, где помещались узкая тахта, покрытая серым в полоску истёртым одеялом, школьный письменный столик, стул и синяя табуретка. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он целыми днями сидел за этим столиком, охватив пальцами голову, и курил, курил…
***
В октябре 1978-го Павел Григорьевич упокоился рядом со своей Зоей на Востряковском кладбище…
А мне не забыть черносливины его мудрых глаз, когда исполненный артистизма старый поэт по просьбе гостя потрясающе читал стихи про санкюлота, а с пожелтевшей фотографии на стене смотрел его навсегда восемнадцатилетний сын.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург.
Фото из открытых источников
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!