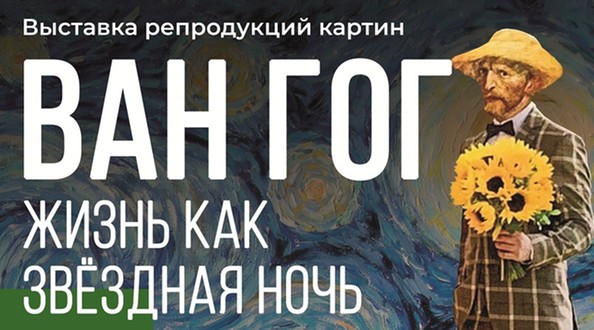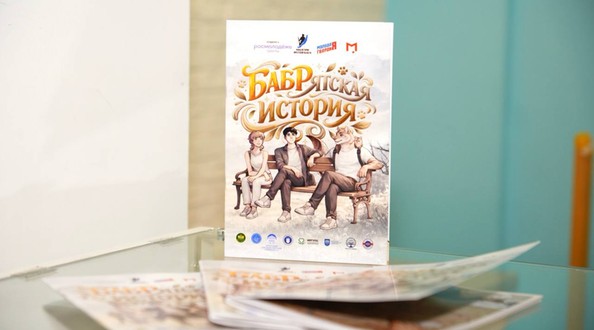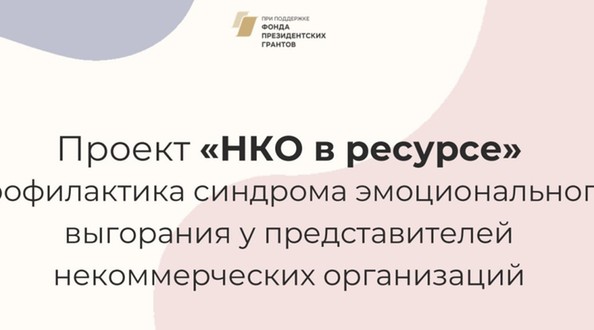Лев Сидоровский: «И клятву верности сдержали…», или про Бородинскую битву

18 сентября 2025
В тот уже далёкий день стоял я на Бородинском поле, над которым, словно пороховой дым, стелились чёрные облака. 7 сентября 1812 года произошла Бородинская битва.
На фото: картина Анатолия Шепелюка «Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения» (1951).
В стороне, где-то за холмами, огни фар невидимых машин, как будто отблески бивачных костров, отражались на мрачных свинцовых, низко опустившихся тучах. Грозы ещё не было, но кругом всё смолкло, стало душно, повисла мёртвая, зловещая тишина.
Только всплески стремительных молний, резавших наплывший мрак, вырывали из этой суровой панорамы то дорогу, то овраги, то проступающие впереди перелески. Точно лучи вспыхивающих прожекторов, освещали они на мгновение те места, где вдали высились еле различимые монументы. И невольно вспомнилась другая знаменитая Панорама, на которой академик Франц Алексеевич Рубо изобразил сие поле в тот день, когда оно сплошь покрылось русскими и французскими войсками, и небо раскалывала пушечная канонада, и клубился густой дым, а изуродованная взрывами земля ходила ходуном.
Ещё раньше на Курганной высоте, где когда-то стояла батарея Николая Раевского, прозванная Наполеоном «могилой французской кавалерии», рядом с гранитной стелой во славу доблестных защитников Отечества, увидел я простое чёрное надгробие – могилу умершего от ран Багратиона.
И ведь именно здесь, на Курганной, в самом пекле сражения находился – вспомни страницы «Войны и мира» – Пьер Безухов.
А за деревней Горки, на высоком холме, дивился обелиску с орлом, который якобы перед началом сражения прилетал к Кутузову (здесь находился его наблюдательный пункт), чтобы предсказать победу. По этому поводу Василий Андреевич Жуковский написал:
О диво! Се орёл пронзил
Пред ним небес равнины…
Могущий вождь главу склонил;
Ура! – кричат дружины.
Лети ко прадедам, орёл,
Пророком славной мести!
Мы твёрды: вождь наш перешёл
Путь гибели и чести…
Этот памятник, как и другие тридцать четыре на холмах, склонах и берегах ручьев, были установлены в 1912-м, когда наши предки отмечали столетие победы. Кстати, и у французов близ знаменитого Шевардинского редута тоже есть свой монумент, увенчанный орлом, с надписью: «Мёртвым Великой армии».
Здесь был командный пункт Наполеона, который когда-то признался:
«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
А вот слова об этом же событии Михаила Илларионовича Кутузова:
«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю».
***
С начала вторжения французов на русскую землю в июне 1812-го наши постоянно отступали. Быстрое продвижение и подавляющее численное превосходство противника не позволяло главнокомандующему Барклаю-де-Толли подготовить войска к сражению. В обществе зрело недовольство, и Александр I поставил во главе русского воинства Кутузова.
Однако и светлейший князь поначалу тоже отходил – дабы выиграть время для сбора всех сил. Наконец, расположились у села Бородино (что от Москвы всего в 125 километрах), где фельдмаршал решил дать генеральное сражение. Вообще-то старый полководец (Кутузову было шестьдесят семь) этой битвы не желал, ибо понимал, что она неминуемо будет проиграна. Но схватки требовал император Александр и вся общественность России: надо остановить Наполеона любой ценой! Что ж, первое (за два дня до главного) столкновение, случившееся при Шевардинском редуте, задержало французов и дало возможность Кутузову построить на основных позициях укрепления.
Ну а сражение, которое состоялось 26 августа по старому стилю, или 7 сентября по новому, вошло в историю как – из однодневных – самое кровопролитное: русские потеряли убитыми сорок пять тысяч, французы – тридцать. (Кстати, среди наших пали двадцать два генерала, у французов – сорок девять). Если учесть, что численность обеих армий составляла примерно двести семьдесят тысяч воинов, то получается: в этой (как её назвал Наполеон) «битве гигантов» погиб каждый четвёртый.
***
Вспомним то утро глазами Пьера Безухова:
«Было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что вырвавшись из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломанными тучей лучами через крыши противоположной улицы на покрытую росой пыль дороги».
По одну сторону предстоящего сражения находился сорокатрёхлетний властитель мира. Наполеон – в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, который спускался на круглый живот, в белых лосинах и ботфортах, – по свидетельству окружения, произнёс:
«Шахматы расставлены, господа. Игра начинается».
А по другую сторону поля находился старый, уставший человек, который уже через полгода во время заграничного похода против Бонапарта умрёт от кровоизлияния. Для него предстоящий бой составлял тяжёлый труд, тем более что Кутузов предвидел огромные потери. Накануне, придя поклониться иконе Смоленской Божьей Матери, грузно опустился на колени и долго шептал слова молитвы.
Именно в то утро другой участник битвы, Фёдор Глинка, сложил строки, которые сегодня, увы, подзабыты:
Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасём мы честь родной страны,
Иль сложим здесь главы!..
Уж гул в полях, уж шум слышней!
День близок роковой…
Заря светлей, огни бледней…
Нас кличет враг на бой!
Ну а потом, по словам уже Михаила Юрьевича Лермонтова:
Земля тряслась – как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой.
Наполеон гнал свои войска сомкнутыми рядами под жерла русских пушек. Дивизию генерала Компана, самую лучшую в корпусе маршала Нея (он тогда тоже получил контузию), атаковавшую Багратионовы флеши, огонь нашей артиллерии буквально смёл. Французские гренадеры со штыками наперевес, под градом картечи, шли в атаку молча, без стрельбы. Восхищённый их храбростью князь Багратион закричал: «Браво!» – и через несколько мгновений осколком ядра был смертельно ранен.
Наши солдаты бросались на противника с не меньшей яростью, а резервные полки, сосредоточенные к линии фронта почему-то слишком близко, весь день под смертельным огнём также не оставляли гибельных позиций.
Да, хотя войска противника лично вели в бой лучшие маршалы Франции – Ней, Даву, Мюрат, сломить русских у них так и не получилось.
К сожалению, мы всё больше забываем имена тех, кто в том единоборстве не посрамил русского оружия: и полковника Бистрома, чьи егери надежно обороняли село Бородино; и генерала Воронцова, чья 2-я сводно-гренадёрская дивизия показала пример доблести; и генерала Неверовского, чья 27-я пехотная перед превосходящими силами неприятеля тоже не дрогнула; и воинов, которых вели в бой генералы Коновницын, Дохтуров, Бороздин, Лихачёв, Багговут, Беннигсен, Шаховский.
И про одновременный удар в тыл и фланг противника казаков Платова и Уварова нынче мало кто помнит. И про то, как, возглавив батальоны Уфимского пехотного полка и 18-й егерский, Ермолов и Кутайсов в битве за те самые флеши рванули на врага в штыки, а одновременно с флангов за этот же редут дрались полки Паскевича и Васильчикова. И как артиллеристы Раевского в немыслимых условиях держались до конца. В общем, не зря сказал поэт:
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Когда доблестная батарея всё же пала, Наполеон с удивлением обнаружил, что центр русской армии – вопреки уверениям свиты – не поколеблен. Наступил вечер, а наши по-прежнему на бородинской позиции располагались прочно, и французам ни на одном направлении достигнуть решительного успеха не удалось. И их император, всегда считавший, что «генерал, который будет сохранять свежие войска к следующему за сражением дню, непременно будет бит», на сей раз свою гвардию в бой так и не ввёл. Решил сберечь последний резерв потому что, оценив обстановку, признаков победы не увидел. Спустя двенадцать часов, полных крови и мук, он, «великий и непобедимый», перед «тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения», испытал чувство ужаса.
***
Над Бородинским полем опустилась вечерняя мгла, и обессиленные армии прекратили боевые действия. Французы остались почти без пищи и даже без воды: окружающие ручьи и речки были завалены трупами и замутнены кровью. Так и расположились среди мертвецов и умирающих, которым в ту ночь никто не оказывал помощи. Выжившие были страшно изнурены. Огонь разрешили зажечь только в полночь. Лагерь завоевателей погрузился в тягостную тишину. Когда же рассвело, французы с удивлением увидели, что русской армии… нет. Она ушла.
Впереди простиралось поле, заваленное трупами. И чем дольше завоеватели разглядывали этот страшный пейзаж, тем дальше ускользала от них победа, казавшаяся ещё ночью такой бесспорной. Может быть, они уже догадывались, что Кутузов решил отвести армию за Можайск, дабы восполнить людские потери и лучше подготовиться к новым сражениям, не случайно же Наполеон, по свидетельству его адъютанта, «был весьма подавлен».
***
Да, вопрос о значении того сражения до сих пор не имеет однозначной трактовки. Ведь формально победу 26 августа одержал Наполеон – второй полководец после Александра Македонского, а русские всё отступали и в итоге сдали Москву. Однако именно на Бородинском поле силы французской империи были ослаблены настолько, что, даже войдя в древнюю столицу России, надолго там не задержались.
По сути, Бородино предопределило и Ватерлоо, и последовавшее далее окончательное падение великого императора. Именно с Бородинского поля начались его неудачи. Именно на Бородинском поле, где он потерял лучшие силы своей армии, цвет её генералитета, стратегия гениального полководца была поставлена под сомнение. Да и сам он, истово верящий в то, что провидение движет его военным талантом, после Бородино всё чаще обращал свои взоры к небу. Уже тогда – по свидетельству современников – предчувствовал свою катастрофу.
***
Так думалось мне на Бородинском поле, которое давно стало огромнейшим мемориалом и даже Храмом. А ещё томил душу стыд оттого, что после октябрьского переворота часть здешних памятников подверглась надругательствам. Под лозунгом борьбы с царским наследием дорогие могилы оскверняли – вот и склеп Багратиона был разрушен, и монумент на батарее Раевского разобран на части.
Это случилось незадолго до Второй мировой. Правда, Великая Отечественная советскую власть всё же отрезвила, ведь Бородинское поле опять стало местом кровопролитных сражений, и память о предках давала бойцам Красной Армии силы сдерживать врага, снова рвавшегося к Москве. Да, в октябре сорок первого именно здесь шесть дней шли ожесточенные бои.
И теперь под этим небом вместе с грандиозным монументом в честь героев, «положивших живот свой на поле чести за Веру, Царя и Отечество», вместе с разнообразными памятниками (от гранитных глыб до классических колонн и часовен), увенчанных православными крестами, орлами и императорскими колоннами, расположенными на тех местах, где в день сражения отличились тот или иной полк, дивизия или корпус, есть обелиски и с пятиконечными звёздами.
Такое вот великое поле, на котором Россия не только в 1812-м достойно посрамила непрошеных пришельцев.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!