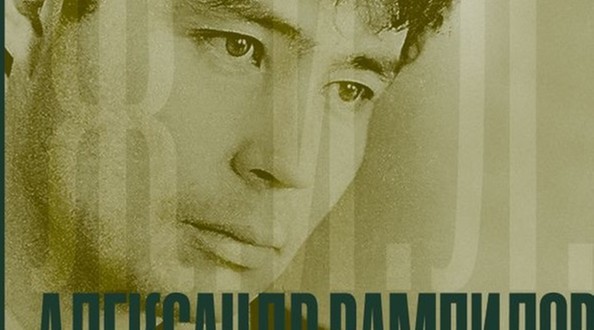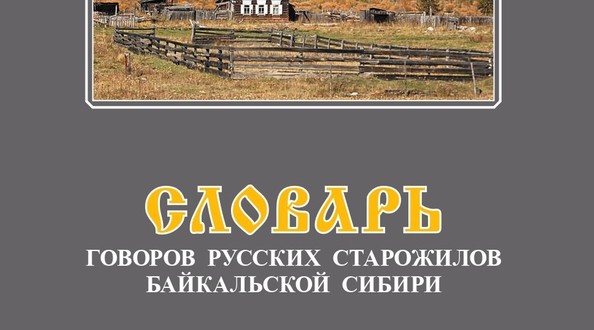Лев Сидоровский: 85 лет назад родился Марк Розовский

03 апреля 2022
Помнится, в 1997-м, 3 апреля, в столичном Доме актёра свою «оду» в честь его 60-летия я начинал так:
«Когда-то, Третьего Апреля,
Был для России звёздный миг –
В тот день (видать, с большого хмеля)
Ильич залез на броневик!
И должен был земной наш шарик
Ещё крутиться двадцать лет,
Чтоб, наконец, Розовский Марик
Явиться смог на белый свет...»
Марк Розовский. Надо ли к его имени ещё что-то добавлять? Чертовски талантлив! Сам я впервые убедился в этом лет так шестьдесят назад, когда брега Невы посетила им придуманная и созданная эстрадная студия МГУ «Наш Дом» (оттуда, кстати, вышли Хазанов, Фарада, Филиппенко). Потом – потрясение в БДТ от «Бедной Лизы» и «Истории лошади», другие счастливые встречи с его искусством. Наконец – им выпестованный «Театр у Никитских ворот».
А лично мы познакомились в сентябре 1992-го, на ялтинском берегу, под крышей Дома творчества «Актёр». Сошлись мигом. Потом я для их театра кое-что «капустническое» сочинял. Этот наш разговор случился в конце 90-х.
– Марк Григорьевич! Впрочем, зачем нам эта официальщина? Марик! А ведь дипломы о высшем образовании у нас с тобой одинаковые, журналистские. Однако вот ты своим дипломом почему-то не воспользовался: изменив журналистике, пришёл в театр. Почему? Может, сказались семейные гены?
– Гены тут не при чём. Никакого отношения к театру мои родители не имели. В середине 30-х поехали они на Камчатку – «строить социализм». Там и родился. А через полгода отца арестовали. И увидеть его потом, на свободе, довелось лишь спустя восемнадцать лет. Вырастили меня мама и бабушка. Бабушка, кстати, спасла пятилетнему внуку жизнь: при бомбежке закрыла меня своим телом и сама получила ранение.
– Тогда, может, всё начиналось в школьном драмкружке?
– Да, именно там: наша 170-я находилась в самом центре Москвы – рядом МХАТ, Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, мастерские Большого театра, где меня, между прочим, принимали в пионеры. Была замечательная учительница русской литературы Лидия Герасимовна Бронштейн, которая погрузила меня в это увлечение. Помню, например, делал доклад, посвящённый «Горю от ума», в котором, в частности, говорил о Мейерхольде, хотя это имя в ту пору было под запретом. В соседних классах учились Эдик Радзинский, Андрюша Менакер (тогда ещё не Миронов), позже Люся Петрушевская. Был драмкружок, помню, играл Актёра в «На дне». Проводились конкурсы на лучшего чтеца. На одном из таких конкурсов, на первом туре, я читал сказку Горького «Девушка и Смерть».
– Ту самую, про которую Сталин сказал, что «эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте»?
– Вот-вот. Однако, хотя великий вождь и оценил эту «штуку» столь высоко, её эротичный, даже сексуальный душок для советской школы в то время был неприемлем, и жюри предложило мне резко сменить репертуар. Тогда на втором туре я прочитал есенинское «Письмо к женщине».
– «Вы помните, вы всё, конечно, помните.» – но ведь тут эротики тоже хватало, да и Есенин тогда был «не наш»...
– И сегодня горжусь тем своим поступком. Конечно, «запрещённый», могучий есенинский стих из уст мальчишки звучал забавно, в жюри возникло замешательство, назревал скандал. Но всё равно успех Есенин (не я!) имел феноменальный. Из этой истории на всю жизнь извлёк урок: если делаешь то, что хочешь, то, пусть и не получишь первую премию, зато широкое зрительское признание будет обеспечено...
– Что ж, твой путь в искусстве истинность этого правила подтверждал неоднократно И всё-таки почему после школы не подался в актёры?
– Да поступал туда, но, к счастью, не приняли: ведь, думаю, актёр из меня бы не получился. Ну, может, на эстраде? Год провёл в МИСИ (одновременно с Володей Высоцким), однако ещё раз убедился: точные науки – не моё дело. Поэтому перебрался в Университет, на журфак. В МГУ был эстрадный коллектив, которым руководил Георгий Вардзиели. Подражая Райкину, я там сделал пару номеров – и закрутило.
– Имел успех?
– Опасный успех.
– Почему «опасный»?
– Потому что, если человек выступает на эстраде с номером, который изначально, предназначен для того, чтобы зритель смеялся, и всеми силами этого добивается, то считай, что этот человек испорчен. Смех в зале – огромная развратительная силища, которая так и втягивает: тебе хочется ещё и ещё испытать это сильнейшее, почти физиологическое наслаждение. Но смех возбуждает к творчеству. Смех – это свобода. Обожаю, когда зритель аплодирует, когда он неистовствует.
– А разве есть режиссеры, которые к успеху равнодушны?
– Да сколько угодно! Заявляют о своём безразличии, манифестируют своё пренебрежение к публике: мол, нам всё это – до фени. Думаю, что подобным образом они просто-напросто защищаются от провалов: мол, мы – художники, мы – выше толпы. А сами, подозреваю, от бессилия плачут по ночам в подушку... Нет, я за то, чтобы театр имел у публики шумный успех, но при этом, конечно, не зову ни к бульварщине, ни к вульгарщине, ни к так называемой «массовой культуре»...
– Да, все эти похожие друг на друга рок-шоу под крышами многотысячных залов...
– Ужасно. Когда-то, в прошлом веке, «революционные демократы» иронизировали по поводу «искусства для искусства». Но сейчас беда куда страшней: пришло искусство без искусства! И самое горькое, что в обществе возникла хорошо оплачиваемая потребность в такого рода «искусстве». Ибо возник класс нуворишей, класс новоявленных хозяев жизни с очень тугими кошельками, которые требуют для себя вполне определённого обслуживания. Раньше того же от художника требовали партбоссы. Вместо нынешнего: «Сделайте нам красиво» говорили: «Сделайте нам идейно».
– Вот перебираю в памяти спектакли твоего театра. Например, такой пронзительный по пьесе Джорджа Табори «Майн кампф. Фарс». Значит, опасность отечественного фашизма волнует тебя очень? Это твоя тема, боль?
– Ещё какая боль! Об этом и некоторые другие мои спектакли. Например, «Всё течет – Жизнь и судьба» по Гроссману, где рассказ о том, как в середине двадцатого века человек погибал между гитлеризмом и сталинщиной. Или «Триумфальная площадь» о Мейерхольде, страшной судьбе художника в эпоху тоталитаризма. Как могу, своим делом стараюсь этому страшному противостоять...
– Судьба художника в эпоху тоталитаризма – об этом ведь была и твоя театральная работа, посвящённая Маяковскому. До сих пор ощущаю ошеломление, которое испытал, наверное, уже лет пятнадцать назад, в зале Дворца искусств, где ты тогда читал эту, столь необычную пьесу – «Высокий», со столь не хрестоматийным героем.
– Не разделяю сегодняшней тенденции – сбросить Маяковского «с корабля современности». Хотя сам он когда-то намеревался сделать это со всеми классиками. Преклоняюсь перед Владимиром Владимировичем как перед великим поэтом двадцатого века – достаточно перечитать хотя бы его любовную лирику, чтобы убедиться: ничего мощнее в поэзии до сих пор не сказано. Да, конечно, и Маяковский, и Мейерхольд, и другие художники левого направления продали душу коммунистическому дьяволу, но и они сами были погребены в «нашей буче, боевой, кипучей». Всё же, думаю, с этими художниками не всё так просто обстоит. Сегодня имена и Маяковского, и Мейерхольда, и ещё кое-кого часто просто-напросто порочатся. А пора бы разобраться – кто есть кто в нашем искусстве и в чём была трагедия этих титанов художественного освоения мира, действительно мощных новаторов, подлинных авангардистов. Да, они заблуждались. Трагически заблуждались. И вместе с тем сам финал их трагедии заключается в том, что они были, может, одними из первых, кто противостоял своим убийцам.
Задумаемся: что, например, изображено в пьесе «Баня» и кого она действительно моет? Что за человек по имени Победоносиков, который возникает в сознании победившего пролетариата на рубеже 1929-1930-х? Что такое «Главначпупс» и его аппарат? Кто таков партхолуй с фамилией Оптимистенко? Что за всем этим стоит? Мне кажется, там уже был колоссальный антисталинский заряд. Мы помним школьное определение «лучшего и талантливейшего» и совершенно не знаем Маяковского «диссидентствующего», непокорного, неуправляемого большевистскими помпадурами. Жаль. Сегодня об этих людях - «будетлянах» – ходит столько сплетен. Договариваются даже до того, что Маяковский чуть ли не был связан с НКВД. Но никогда Владимир Владимирович не писал доносов. И даже когда Мейерхольду противостоял Булгаков, всё равно виной этого противостояния была сталинщина, бросавшая художников на разные стороны баррикад. Да, они могли поносить друг друга. Но доносить? Никогда!
– Уж не потому ли в 1967-м так напугала Ленинградский обком твоя пьеса «Новая "Мистерия-буфф"», поставленная на сцене Театра имени Ленсовета? Что же там, в тот уже далёкий год 50-летия советской власти, чиновников из Смольного повергло в такой ужас? Что произошло?
– Произошёл театральный праздник – в могучей постановке Петра Фоменко, декорациях фантастического сценографа Игоря Димента. Дело в том, что «Мистерия-буфф», эта первая советская пьеса, имела приписку самого Маяковского: «В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие "Мистерию-буфф", меняйте содержание, – делайте содержание её современным, сегодняшним, сиюминутным». И я, по наивности, решил выполнить этот завет. Игорь Петрович Владимиров – по той же наивности – разрешил этот завет воплотить на сцене, за государственный счёт. Состоялось всего два просмотра. И началось. То есть кончилось. Оказалось, что более антисоветского спектакля к 50-летию советской власти, чем наш, трудно себе представить. После обсуждения в управлении культуры было такое впечатление, что сейчас к нам войдёт какой-нибудь матрос Железняк и от чистого сердца из знаменитой «авроровой шестидюймовки» бабахнет по всем тем, кто участвовал в этом революционном действе.
Никогда не забуду бешеного страха в глазах обкомовских чиновников, когда они видели, как «нечистые», то есть мы с вами, народ, сбрасывали с Ковчега «чистых», то есть их. А дальше сметали Ад с его сталинско-гитлеровскими лагерями, сметали Рай с его псевдятиной и ложью коммунистических иллюзий и отказывались от Земли Обетованной, которая являла собой отнюдь не землю государства Израиль, а абсолютно наше, родное отечество, пришедшее к рыночным отношениям и полной нищете духа.
– Может, пришло время вернуться к этой идее? В самом деле, если этот спектакль показать сегодня?
– Может быть, может быть. Ведь потоп, начатый в 1917-м, продолжается и сегодня. И все мистерии, героями которых мы являемся, рано или поздно получат приставку «буфф», а затем, по завету поэта и по зову сердца, оказываются вечно новыми «героическими, эпическими и сатирическими изображениями нашей эпохи».
Который день кручу кассету: слушаю, как Марк Розовский поёт свои песни. Давно привык к мысли насчёт того, что всё, им сделанное, – непременно интересно, неожиданно, талантливо, однако вот и сейчас, от этого очередного его сюрприза, вновь испытал нечто вроде потрясения. В самом деле: ведь и прежде не раз убеждался в том, что Розовский, кроме всего прочего, ещё и удивительный мелодист, и, допустим, его песни из «Истории лошади» в исполнении Евгения Лебедева до сих пор бередят душу, но как же здорово, оказывается, сам автор эти же песни – нет, не «поёт», а очень по-своему «проживает», существует. А сколько воистину «одесского» озорства и шика выдаёт он в своих знаменитых, из «Гамбринуса», куплетах «про Дюка»! И как пронзительно «играет» маленький трагический песенный спектакль под названием «Кихелэх и земелэх»...
В общем, под впечатлением от этой самой аудио-кассеты снова заявился с диктофоном к своему старому другу.
– Марик, судя по всему, музыка вообще в твоей жизни значит много. А музыка в театре? Какое место отводишь ей там?
– Музыка в жизни может приносить удовольствие, существует как некий сопровождающий твою жизнь темпоритм, а в театре это – один из сложнейших компонентов той структуры, которую я называю «миром писателя», «миром пьесы». Здесь речь идёт уже не о моем личном удовольствии, а о смысле, и этот смысл музыка, как правило, делает чувственным.
– Слушая твои мелодии, всякий раз испытываю чувство, что сочинил их профессионал.
– Как говорят в Одессе, «мне с вас смешно».
– Что, не учился музыке?
– Совсем чуть-чуть. В 1944-м моя раненая в ногу бабушка, хромая, отвела меня, семилетнего, в школу Гнесиных. Принимала сама Елена Фабиановна Гнесина: осмотрев мою руку, пальцы, отправила на фортепианное отделение. Там проверили мой слух (я пел таким же сиплым, как сейчас, голосом «Раскинулось море широко...»), он оказался абсолютным. Дома, в нашем подвале, было пианино, и, учась в «Гнесинке», я постепенно стал играть на нём всё то, что требовалось по программе: из «Детского альбома» Чайковского, «Сонатину» Шпиндлера, «Этюды» Черни. Но жили мы бедно, а в «Гнесинке» учились в основном дети генералов и других богатых родителей, которые приезжали на «эмках» и «зисах», делали преподавателям дорогие подарки – так было принято. Мы ж этим правилам не соответствовали, потому что жили бедно. Кроме того, ездить со мной, почти ежедневно, туда, на Собачью площадку, больная бабушка уже не могла. И однажды на семейном совете решили: всё, конец! Честно говоря, я такому решению радовался, потому что музыкой был перекормлен. И потом к фортепиано уже никогда не подходил, ноты позабыл. Конечно, у нас, как и у всех, был патефон, на котором постоянно крутились пластинки, которые старательно собирала мама: песни Утёсова, Шульженко, Козина. К тому ж – записи Вертинского, американского джаза 30-х годов.
– Что ж, советские песни той поры воспитывали музыкальный вкус.
– И всё же, в первую очередь, советская песня была средством оболванивания людей. Сталинская пропаганда понимала, что оболванивать легче всего с помощью красивых мелодий, и в этом смысле советская песня была весьма самобытна. Помнишь: «По долинам и по взгорьям», «Дан приказ ему на запад», «Каховка» – как же там старались романтизировать, «приподнять» в глазах людей недавно закончившуюся кровавую Гражданскую войну. Простые, «демократические» мелодии, с такими очень уж не усложнёнными, без всякой высокой поэзии, словами (которые как бы «проникали в душу»), властью культивировались, и это все была политика. Привлекались талантливые люди, которые чувствовали тягу народа к этой сентиментальности. Жизнь-то была злая, жестокая, чудовищная, а в этих песнях возникала трогательность, задушевность, какая-то простота, доброта, они как бы «балансировали» всё страшное, становились тем, что сегодня мы называем «оттягом».
– В песне было, как и в тогдашнем кино, где тоже создавали милые, трогательные сентиментальные истории про «весёлых ребят», про «светлый путь», про письмоносца Стрелку из «Волги-Волги»...
– Вот-вот! И в кино мы шли абсолютно голливудским путём – творили фабрику грёз, и в песне. Чуть ли не полстраны сидело по тюрьмам, лагерям, а люди пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
– И всё же, сколько было у нас дивных мелодистов – от Дунаевского до Мокроусова, от Соловьёва-Седого до Фрадкина. И поэты рядом с ними порой оказывались талантливые. И исполняли те песни хорошие певцы...
– Не спорю. Однако, когда после них услышал Вертинского, был просто ошарашен: как всё грандиозно – по тонкости, по изяществу. Наверное, впервые тогда понял, что пение может быть не только, так сказать, голосовым, но и пением со смыслом.
– Вот и подсказал ты мне главное, что резко отличает твоё пение от абсолютного большинства тех, кто ныне «блистает» на эстраде: в отличие о них ты поешь со смыслом! Кстати, не пойму, какой у тебя голос? Что-то баритонально-теноровое?
– Понятия не имею, скорее – что-то сиплое.
– Это когда ты просто разговариваешь – «что-то сиплое». И, честно говоря, просто непонятно, как такое «сиплое» при пении превращается в нечто божественное...
– Эк хватил! Впрочем, бытовой голос от певческого порой отличается разительно. Например, я слышал, как в жизни разговаривает Паваротти: голос как голос, ничего особенного, и трудно представить, что это «тот самый Лучано». В нашем горле, скрыт мощнейший аппарат. Вообще я считаю, что искусство пения на театре – это прежде всего искусство дыхания. Умение дышать в песне может быть, самое важное! Потому что от дыхания зависит интонация, мощь, «тише-громче» – тысяча нюансов. Что значит «петь по смыслу»? Надо уметь подчинить пение интонации разговорной речи. Можно петь ноты, а можно – гораздо больше, чем просто «ноты». Интонационность моей «звуко-речи» соответствует моему определённому житейскому, человеческому опыту, который выражен в словесном общении. В этом смысле искусство драмы начинает выражать себя в музыке, но не в вообще музыке, а в песне-зонге, где есть и отчуждение, и поэтический комментарий, который заложен в тексте. Поэтому я пою не слова, а стихи.
– А музыку-то, не зная нот, как сочиняешь?
– По-разному. Поначалу начинаю петь нечто себе под нос. Например, вся мелодика «Истории лошади» придумана летом 1974-го на одесском пляже. У меня были с собой стихи Юры Ряшенцева, и я там не только писал по повести Льва Толстого пьесу, но и на эти стихи придумывал мелодии. Потому что для меня мелодия – это атмосфера того или иного эпизода. Делая драматургию, уже должен был чувствовать как стихи распределяются в пьесе, они уже диктовали всё! Да-да, стихи, которые превращались в песни, не должны быть в пьесе просто вставными кусками: когда возникал тот или иной эпизод, мне необходимо было слышать, какой в этом эпизоде будет музыкальный комментарий, – только тогда и рождалась мелодия.
– Кажется, благодаря «Истории лошади», ты даже оказался первым советским композитором, чей мюзикл исполнялся на Бродвее. Причём в течение целого года!
– На Бродвее спектакль поставил американский режиссёр Роберт Кэлфин. Вообще в заграничной судьбе «Лошади» много смешного. Например, у меня дома хранится телеграмма из Национального Лондонского театра: «Приглашаю Вас и Вашу супругу в пятницу на премьеру "История лошади". Ваши места такие то. Сэр Питер Холл». Телеграмма пришла во вторник. Поскольку я был «невыездной», мы с женой расхохотались, пригласили друзей и на кухне в честь премьеры распили бутылку водки. А ездить за границу стал, когда мне уже стукнуло пятьдесят.
Но вернусь к рассказу о том, как у меня «рождается» музыка. Еще до «Истории лошади» примерно так же происходило в работе над «Бедной Лизой». А ещё раньше – в МГУ, когда для спектакля, посвящённого «интернациональной теме» (в 1968-м, когда наши танки вползли в Чехословакию!), сочинил «Кихелэх и земелэх». Мелодию этой трагической песенки я как бы стилизовал, потому что стихи Моисея Тейфа, блестяще переведённые Юнной Мориц, ритмически уже невольно «подсказывали» мелодический ряд, но, понимая, что этого всё ж маловато, вставил туда кусок: «Йё, йё, йё...О-ёй, о-ёй, о-ёё...» – это как бы скрипка плачет, ну, так я слышал. В общем-то, все мелодии, которые сочиняю, не в чистом виде – мои. Всё это – стилизации. Так что не считаю себя композитором, который сочиняет музыку: нет, я только стилизую...
– Что, стилизация русского песнопения? Романса, уличной песни, цыганской мелодики?..
– Да, это всегда связано с русской музыкальной культурой, которая распевна. Например, у американцев совсем другая формула, потому что у них другая протяженность слов, другая музыка разговорной речи: у них речь более скорострельная, поэтому и стихи более ломкие, годятся для джаза. Как они пишут песню? Обычно сочиняют музыкальный «квадрат», а дальше под этот «квадрат» импровизируют, нанизывают на него всё новые «украшения», то есть происходит обязательное усложнение музыки, отсюда, кстати, и джаз. У нас же, на Руси, такого не происходит: у нас в песне могут быть просто украшения, но сама мелодия не делается более изощрённой и витиеватой, а остается, допустим, в пятом куплете точно такой же, как в первом. И вот, отталкиваясь от этой русской традиции, я обычно, когда держу перед глазами стихи, робко бурчу их под нос, а потом пою.
– Но ведь новорожденную мелодию надо как-то обозначить, иначе забудешь!
– И забываю. Сколько раз бывало: ночью сочиню, а проснувшись утром, не помню. Для страховки придумал собственную «нотную грамоту». Когда принёс в питерский БДТ «Бедную Лизу» и напел все зонги Товстоногову, он сказал: «Не нужно никакого профессионального композитора. Как вы пели, пусть так и останется в спектакле». Конечно, потом мне очень помог музыкальный руководитель театра Семён Ефимович Розенцвейг: всё это аранжировал, поправил, сделал грамотным. Во время нашей совместной работы дело доходило до анекдотов. Например, когда мне слышалась какая-то высокая нота, я объяснить это профессионально не мог и говорил Розенцвейгу, который играл на рояле: «Правее! Правее играйте!» Он смотрел на меня безумными глазами и играл «правее». Примерно так же всё было и потом, на репетициях «Истории лошади»...
– А кроме Розенцвейга, кто из музыкантов помогал?
– В театре «У Никитских ворот» это делает зав музчастью Таня Ревзина. А давным-давно, в «Нашем Доме», мне очень подсобляли Николай Корндорф и Максим Дунаевский, ныне оба известные композиторы.
– Помнится, тогда, в МГУ, ты создавал и джазовые мелодии...
– Было такое. Например, убойный номер, который, кстати, воспроизвёл недавно, на юбилее Вити Славкина:
Среди асфальта и бетонных стен – ду-да!
Среди гудков и го-о-ро-о-дско-о-го шума,
Стиляга Боб влюбился в манекен
С витрины ГУМа, ГУ-У-Ма, ГУ-У-У-Ма!..
Ах, как мы пели джаз! Это у нас называлось: «блабдитуди» – то есть, «кинуть на губах» джазовый брэк! Изображали губами любой инструмент, выдавали «под Амстронга»: «Хэлло, Долли!» У нас был квартет, где каждый исполнял своё соло, а я в финале – только два слова: «Бай-бай...», но всегда на этом «пианиссимо» срывал аплодисменты.
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Фото автора: он запечатлел Марка Розовского на фоне афиши их «капустного» спектакля «Никитский хор», где исполнялось кое-что и его.
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!