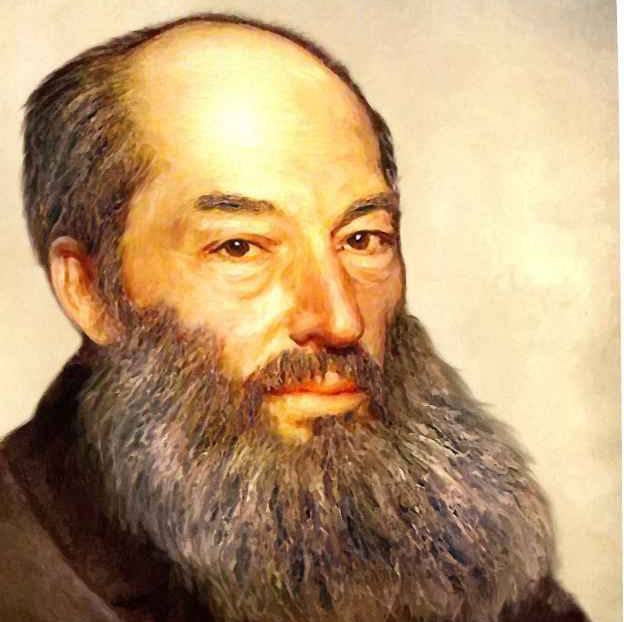Лев Сидоровский: Певец «благоуханной свежести» Афанасий Фет

05 декабря 2020
Уроженец Иркутска, известный журналист Лев Сидоровский об известном русском поэте.
Далекой школьной порой, которая выпала на Великую Отечественную, в нашей «Хрестоматии» были и такие строки:
Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало…
Шла война, положение на фронте порой вызывало отчаяние, в чьих-то семьях получали похоронки, но вот подобные светлые стихи измученные детские души все-таки чуть-чуть успокаивали, заставляли верить в хорошее:
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой…
И мы уже просто не могли не запомнить это имя – Афанасий Фет.
На белый свет он явился под Мценском, в усадьбе Новосёлки, которая принадлежала отставному гвардейцу Шеншину. В том 1820-м Афанасий Неофитович из Германии, где лечился на водах, возвратился с юной Шарлоттой Фёт, которая всё свое прошлое в Дармштадтсе принесла в жертву новой страсти. Сына назвали тоже Афанасием, причем точная дата рождения (в октябре? в ноябре?) осталась неизвестной.
А в 1834-м к тому же открылось, что отныне четырнадцатилетнего Афанасия Шеншина следует именовать «гессен-дармштадтским подданным А. Фётом». Эта короткая фамилия, такая «мягкая» («фёт» – по-немецки «жирный»), принесла мальчику, по его словам, «жесточайшие нравственные пытки», тем более что из Новосёлок оказался срочно перемещенным под крышу частного пансиона немца Крюммера в далеком лифляндском городишке Верро.
Лет сорок назад в эстонском Выру мне показали дом, в котором этот пансион располагался. Оторванный от семьи, потерявший свою фамилию, вообще отлученный от дома (его не брали в Новосёлки даже на летние каникулы) юный изгой очень страдал: однажды, оказавшись на верховой прогулке у лифляндской границы, соскочил с лошади и бросился целовать русскую землю – не там ли следует искать исток его поэзии?
Наконец, стараниями Шеншина он перебрался в Москву, поступил в Университет, где на всю жизнь обрел друга, Аполлона Григорьева, который тоже горел страстью к творчеству. Вместе готовили первый, «студенческий», сборник стихов Афанасия, а в 1842-м «Отечественные записки» поместили его «Посейдона», под которым значилось: «А. Фет».
Таким образом, заменив «ё» на «е», он фамилию «гессен-дармштадтского подданного» превратил в литературный псевдоним русского поэта… И скоро там же появилась его «лирическая декларация»: «…Рассказать, что с той же страстью, // Как вчера, пришёл я снова, // Что душа всё так же счастью // И тебе служить готова…» – та самая, из «Хрестоматии» военной поры.
Да, Фет во всеуслышание поименовал всё, о чем он пришел поведать в русской поэзии: о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой, весенней жизни; о жаждущей счастья влюбленной душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира… До этого подобного лирического «весеннего чувства» в русской словесности, которое для Фета стало главным, пожалуй, и не было. Критики окрестили его «благоуханной свежестью».
Как же с драматической историей происхождения Афанасия Шеншина связать появление лирика Афанасия Фета? Может, в этом помогут строки, которые юный поэт еще в 1841-м перевел из Гейне, но выразил в них самого себя:
Из слёз моих много родится
Роскошных и пёстрых цветов,
И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьёв…
А Аполлон Григорьев считал, что его друг «должен был или убить себя, или стать таким, каким он сделался…»
Да, вечно юная Весна одолела в его душе трагедию:
Ты пронеслась, ты победила,
О тайнах шепчет божество,
Цветёт недавняя могила
И бессознательная сила
Своё ликует торжество…
И вот этой-то «Бессмертной Весне», вот этому-то величайшему своему божеству, Фет будет приносить поэтические дары до последнего мига, всякий раз вдохновляясь чувством «весеннего возрождения»: «Но возрожденья весть живая уж есть в пролётных журавлях…»
К тому же его весенние стихи поражали читателя какой-то стихийной силой любовного влечения, когда поэта буквально сжигал «весенний огонь»:
Сердце пышет всё боле и боле,
Точно уголь в груди я несу…
Ну и, конечно же, в них живет и другой крылатый вестник весны – соловей:
Какая ночь! Все звёзды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь…
Земная ночь, пронизанная весенней любовной тревогой, – это частица мирового гармонического целого. Поэтому так интимно-родственны отношения души поэта с космической бесконечностью – со звездами, как случилось это, например, в стихотворении, которое Чайковский ставил «наравне с самым высшим, что только есть высокого в искусстве»:
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал…
На этот раз поэт не передает своих «диалогов со звездами» (как в некоторых других стихах такого рода) и не просто чувствует свое родство с космической жизнью – он переживает необычное состояние погружения в космическую глубину:
Я ль нёсся к бездне полуночной,
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис…
Какая открытость столь уникальным переживаниям! Не случайно здесь же признаётся: «И я, как первый житель рая…»
Вот то самое стихотворение, ставшее символом его поэзии, с которого и началась громкая слава Фета:
Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!..
Вслушайся, дорогой читатель: здесь любовное свидание окутано какой-то «полупрозрачной завесой», каким-то таинственным полумраком. Однако можно догадаться, что в этих воздушнейших строках скрыты «радость земли», огонь страсти, что это один из тех случаев (по словам самого Фета), когда «поэт сам не подымает окончательно завесы перед зрителем, предоставляя последнему смотреть сквозь дымку, как, например, пред изображением вчерашней наивной девушки, взглянувшей наконец в действительную жизнь с ее высшими дарами».
Да, «первый житель рая» умел рассказать о первозданном человеческом естестве, о вечных «радостях земли» не только с поэтическим целомудрием, но и с ошеломляющей лирической новизной. В самом деле: ни одного глагола! Однако для автора это вовсе не технический эксперимент, а органическая часть великой «музыки любви».
Не логически последовательной речи, опирающейся на глаголы и расчлененной синтаксисом, хочет Фет: он ищет лирический способ выразить дрожь сердца, огонь крови, волнение и нарастание страсти! Потому что понимал: все слова человеческой речи – это океан звуков, это великая и таинственная стихия «музыки речи», над которой властен только лирический поэт: чем глубже изведал он тайны этой музыки, тем больше мощь, тем неотразимее магия сотканного им «смыслового созвучия».
Так что строки про «шёпот, робкое дыханье…» – это, пожалуй, волшебный ряд бесконечных, внутренне связанных, необходимо следующих один за другим аккордов, которые прервать невозможно. И читается всё это ну просто на одном дыхании… А сам поэт мечтал: «О, если б без слова сказаться душой было можно!»
После Московского университета Фет отправился в Херсонскую губернию, где поступил на службу в кирасирский военного ордена полк. Избрав «наследственную» для Шеншиных кавалерию, решил дослужиться до офицера и тем самым вернуть себе дворянский титул. Беспощадно обуздав себя во всём, достиг образцовой военной формы. Но судьба над ним смеялась: дважды выходили царские указы о повышении ценза для получения потомственного дворянства – сначала это был чин майора, потом – полковника. Достичь последнего Фет уже не надеялся – и в 1858-м гвардии штабс-ротмистром вышел в отставку.
В первые «кавалерийские» годы его поэзия безмолвствовала. Однако настали 50-е, и однажды в редакции петербургского «Современника», где собрался весь цвет русской литературы, появился «коренастый армейский кирасир, говорящий довольно высоким слогом». Особенно близко сошелся с Тургеневым, Некрасовым, и Лев Толстой тоже восхищался его «лирической дерзостью».
В ту пору поэзия Фета была «окружена похвалами», а его романсы распевала чуть ли не вся Россия. Когда же в 60-е «Современник» стал биться за социальное преобразование общества, добрые отношения с Некрасовым прекратил. Чтобы остаться самим собой, лирик-поэт встал против господствующего течения и обрек себя на почти полное одиночество.
Он уже был женат на девушке из богатой московской семьи Марии Боткиной, к тому же на окраине родного Мценского уезда приобрел хутор Степановку с двумястами десятинами отличной пахотной земли. «Вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь», – писал ему Лев Толстой. И тут же добавлял: «Я от вас всё жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, что вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека». И Фет оправдал эти ожидания, обратившись к даме сердца:
Далёкий друг, пойми мои рыданья,
Ты мне прости болезненный мой крик.
С тобой цветут в душе воспоминанья,
И дорожить тобой я не отвык…
Он покинул Степановку, оставил хозяйственную деятельность и, купив в 1877-м великолепную старинную усадьбу Воробьёвку, сделал ее «обителью поэзии». Здесь «лирический поток» старика Фета набрал полную силу, и с 1883-го по 1893-й появились один за другим четыре выпуска его лирических стихотворений под общим именем – «Вечерние огни».
Название оказалось многозначным: это был и «вечер жизни», и – одновременно – тот переходный час от дня к ночи, когда поэт радостнее всего чувствовал свою «лёгкость»:
Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнём с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля – и теплится, как море…
Софья Андреевна Толстая вспоминала встречу с Фетом в Ясной Поляне весной 1891-го: «Он декламировал нам стихи – и всё любовь, любовь. И это в 70 лет!..» Да, теперь он изливал свою страсть в полных драматизма строках, звуча-щих с органной мощью:
Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом…
Можно ли не поразиться поэту, которого ни долгие жизненные невзгоды, ни изнуряющие болезни, ни немощная старость не смогли разлучить с тем «садом любви», где «ночных благовоний живая волна доходит до сердца, истомы полна…»
И ведь этот поразительный лирик жил внутри человека, имевшего совсем иной «лик»: в его внешнем облике было что-то жёсткое, а «поэтического» совсем мало. Не случайно Яков Полонский, тоже хороший поэт, ему писал: «Что ты за существо – не постигаю. Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому не видимый человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звёзд, и окрылённый. Ты состарился, а он молод! Ты всё отрицаешь, а он верит! Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений, – перед таким существом, от света которого Божий мир тонет в голубоватой мгле!»
Наверное, этого «внутреннего человека», который жил в Фете и благодаря которому мир узнал великую Лирику, кроме Весны и Любви, еще питала Музыка. Вот так он в 50-е обращался к юной певице:
Уноси моё сердце в звенящую даль,
Где как месяц за рощей печаль;
В этих звуках на жаркие слёзы твои
Кротко светит улыбка любви…
А так писал в 90-е:
Я понял те слёзы, я понял те муки,
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внемлешь, что радость не знает предела,
Где веришь, что счастью не будет конца.
Впрочем, дебильным обожателям современной попсы всего этого не понять…
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург
Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!