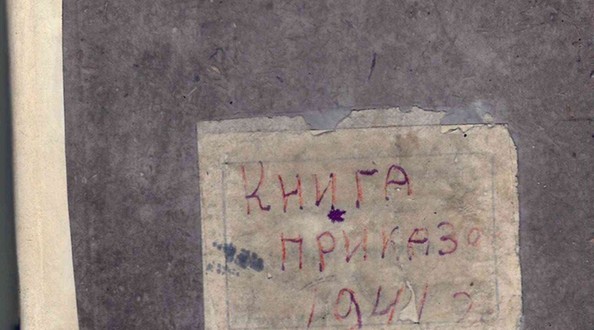Евгений Евтушенко о маме

18 июля 2020
С фронта приехала мама. Она выглядела очень странно - худенькая-худенькая, с черными, не похожими на прежние светлые - волосами.
Сначала я думал, что она покрасила волосы. Я спросил у нее об этом. Мама грустно улыбнулась и сняла с себя парик. На ее голове топорщился мальчишеский ежик. Мама заболела на фронте тифом, а в военных госпиталях стригли наголо. У мамы что-то случилось с голосом. Она пела на фронте по нескольку раз в день, стоя то на грузовике, то на танке перед солдатами, которые после этого шли умирать. Мама рассказывала, что это были самые благодарные слушатели.
Мама пела им и в дождь, и в метель, согреваясь иногда только водкой из чьей-нибудь солдатской фляжки.
И ее голос, такой красивый и сильный, стал слабеть. Голос не выдержал.
По возвращении мама нашла работу; где - она мне не говорила. Потом мальчишки из нашего класса спросили меня:
- Твоя мама певица?
- Певица, - гордо ответил я.
- А где она выступает?
- Я не знаю, наверно, в театре...
- В театре... — хмыкнули мальчишки. - Она в кино поет, в «Форуме»...
Был День Победы. Ракеты одна за другой взвивались в небо. Мальчишки бегали по тротуарам, стараясь поймать их ослепительные брызги. Инвалиды, торгующие папиросами, раздавали свой товар даром. Какой-то генерал купил у продавщицы целую коляску мороженого и угощал им детей. Люди обнимали друг друга, плакали и смеялись. Людям казалось, что все испытания остались позади и теперь начнется удивительно безоблачная жизнь. А я пошел в кинотеатр «Форум».
Фойе было набито битком солдатами и женщинами. Пахло пивом и дешевыми духами. Из рук в руки ходили принесенные с собой бутылки водки. Пили прямо из горлышка, закусывая жадными поцелуями. Официантки закрывали глаза на водку и поцелуи - сегодня разрешалось всё. Никому не было дела до оркестрика, игравшего бравурные марши на крошечной эстраде. Я вздрогнул. На эстраду вышла женщина в платье, осыпанном блестками, в позолоченных туфлях и с густыми черными волосами, под которыми - я уже знал - был только застенчивый мальчишеский ежик.
Это была мама. Мама подошла к микрофону и стала петь. Голос ее был не уверен, и лишь временами можно было догадаться о его прежней красоте. Никто не слушал маму.
Предпочитали целоваться и пить, пить и целоваться. Черт побери - ведь была победа! И за эту победу 20 миллионов русских людей отдали свои жизни, а моя мама - свой голос.
Потом мы шли с мамой по ночной Москве сквозь крики, смех и музыку. Я нес мамин чемоданчик, в котором были сложены ее платье с блестками и позолоченные туфли. На маминых ногах снова были солдатские сапоги.
- Я плохо пела? - спросила меня мама.
- Нет, что ты - очень хорошо, - торопливо ответил я.
Мама посмотрела на меня долгим взглядом и грустно погладила по голове.
Вскоре она сошла со сцены и стала работать рядовым концертным администратором. Это была нервная, изнуряющая работа, а денег она приносила очень мало - 700 рублей в месяц. И вот на эту зарплату, жертвуя своими личными интересами, мама воспитывала меня и мою сестренку Елену, появившуюся во время войны.
Маме приходилось трудно со мной. Характер у меня был ужасный - меня прямо-таки разъедало любопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории. То я попадал в компании самых настоящих воров, то в компании спекулянтов книгами. И отовсюду меня выволакивала мама. Мама хотела от меня, как Ленин, чтобы я учился, учился и учился. А учился я необыкновенно плохо.
***
...Мама не хотела, чтобы я стал поэтом. Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт - это что- то неустроенное, неблагополучное, мятущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, по сущности была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о смертях многих поэтов в сталинских лагерях. Всё это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным. Но самым серьезным мне казалось именно это. И я продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего.
***
Я сражался в школе с ябедами, подхалимами, любимчиками.
Я быстро снискал себе репутацию хулигана. После седьмого класса меня перевели в новую школу, куда учителя сбывали с рук нерадивых учеников со всей Москвы. В ней я проучился недолго, ибо я выделялся даже там своими мятежами.
Однажды кто-то, взломав ночью кабинет директора, похитил все классные журналы. Состоялось общее собрание. Шесть часов подряд директор пытался узнать то при помощи просьб. То при помощи угроз имя виновника. Но все молчали.
Тогда пухлый палец директора, уже пришедшего в ярость, ткнул в меня:
- Это сделал ты!
Я встал и ответил, что он ошибается.
- Ты! Ты! Ты! - повторял директор.
Я понял, что возражать бесполезно. На следующий день я был исключен из школы. <...>
Я некоторое время пытался скрыть от мамы факт своего исключения из школы, зная, как это ее огорчит, но мне это не удалось. Мама в слезах настаивала, чтобы я шел к директору просить о снисхождении, сама хотела идти куда-то, но я был горд.
Я поссорился с мамой и бежал в Казахстан, к отцу, на крыше поезда. Мне было пятнадцать лет. Я хотел стать самостоятельным человеком. Отец работал тогда начальником одной из геологоразведочных экспедиций. Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал: «Ну вот что... Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец. Иначе тебя вольно или невольно будут жалеть. А жалость мужчин мужчинами не делает».
Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции. Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя.
***
Я вернулся к маме, загорелый и возмужавший. После того как она встретила меня на вокзале, мы ехали с ней в трамвае и сбивчиво говорили о чем-то. Вдруг я увидел, что все пассажиры удивленно смотрят на меня, а мама плачет. Оказывается, в разговоре с мамой я по инерции употреблял сочные непереводимые выражения, на которые в моем прежнем кругу никто не обращал внимания. Но мама плакала.
И с той поры я никогда больше не ругаюсь. Почти никогда...
Когда мы приехали домой, я распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол.
- Как хорошо, что у нас теперь есть деньги, - сказала мама. - Мы наконец сможем сделать ремонт квартиры.
- Что ты будешь с ними делать? - спросила мама, всплеснув руками.
- Прежде всего я куплю пишущую машинку, - ответил я. - Остальное тебе.
1962. Из «Преждевременной Автобиографии»
Моя мама была самым твердым орешком. Я и моя сестра Леля, нелегко, но мужественно признавшая Машу как историческую неизбежность, продумали целый план, чтобы заполучить мамино благословение.
Не ставя маму в известность о моих заговорщицких намерениях, я пригласил ее на оперу (по иронии судьбы это был «Фауст», несколько смягченный тем, что пел мой старый казанский друг Эдуард Трескин), взяв ей билет между мной и Машей. Маша должна была добраться в театр своим ходом и оказаться рядом с мамой. Я заехал на машине к ничего не подозревавшей маме и на полпути в театр, как бы нечто второстепенное, уронил фразу о том, что хочу ее познакомить в театре с «одним человеком».
Мама встрепенулась, как старый боевой конь, снова почуявший запах семейных пожарищ.
- Так... И сколько лет этому «человеку»?
- Двадцать три, - ответил я сокрушенно, как будто был в этом лично виноват.
- Но ведь она на тридцать лет тебя моложе! Ты что - рехнулся на старости лет?
- Мы любим друг друга.
- Девушка, которая на тридцать лет тебя моложе, может тебя полюбить только за деньги или за славу...
- Мама, ты же ее совершенно не знаешь...
- А я и знать не желаю. Останови машину, я сойду, - непререкаемо заявила мама. - Я не хочу участвовать в этом позоре.
Спорить с ней было бесполезно.
Маша восприняла мой разговор с мамой спокойно.
- Я ее понимаю, - сказала она. - Она тебя любит и боится, чтобы тебя не обманули.
Мама все-таки пришла на нашу свадьбу, которую мы отпраздновали в новогоднюю ночь, и с горьким вздохом бывшей профессиональной певицы пожимала плечами, когда ее окончательно рехнувшийся сын, несмотря на полное отсутствие вокальных способностей и слуха, исполнил под оркестр, такой же пьяненький, как он сам, «Шаланды, полные кефали».
Мог ли я тогда представить, что всего через пять лет моя мама и Маша заключат друг с другом военный союз против всех моих недостатков и мама подарит Маше свое единственное кольцо, которым она так дорожила? «Ты мне Машу не обижай», - вот что я слышу теперь от моей когда-то непримиримой мамы.
1991-1992. Из романа «Не умирай прежде смерти»
Театр-онлайн.ру
Возрастное ограничение: 16+
В наших соцсетях всё самое интересное!